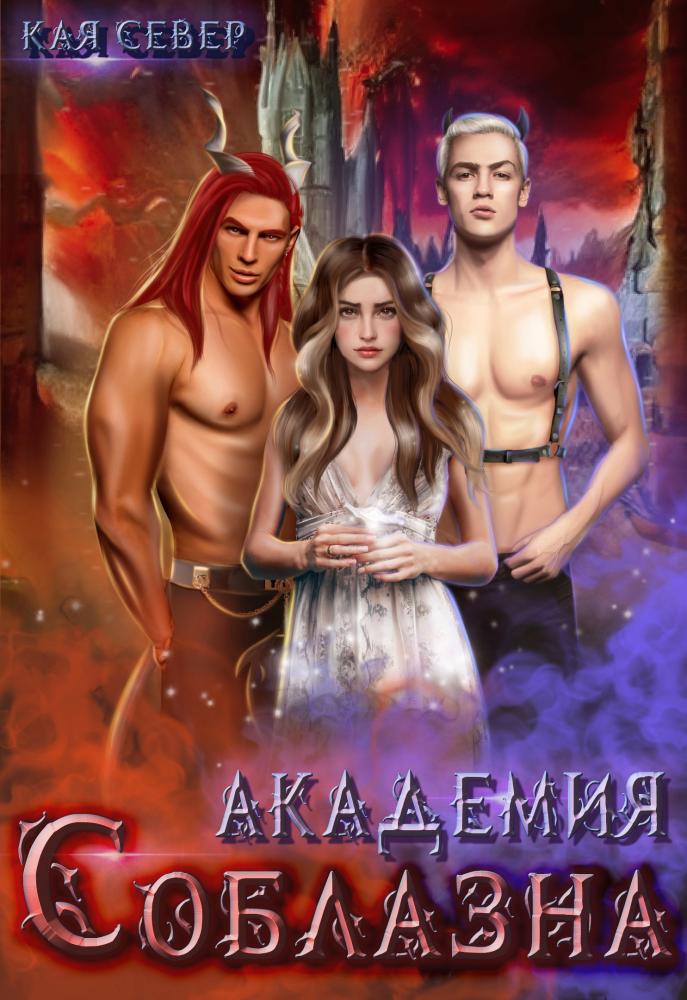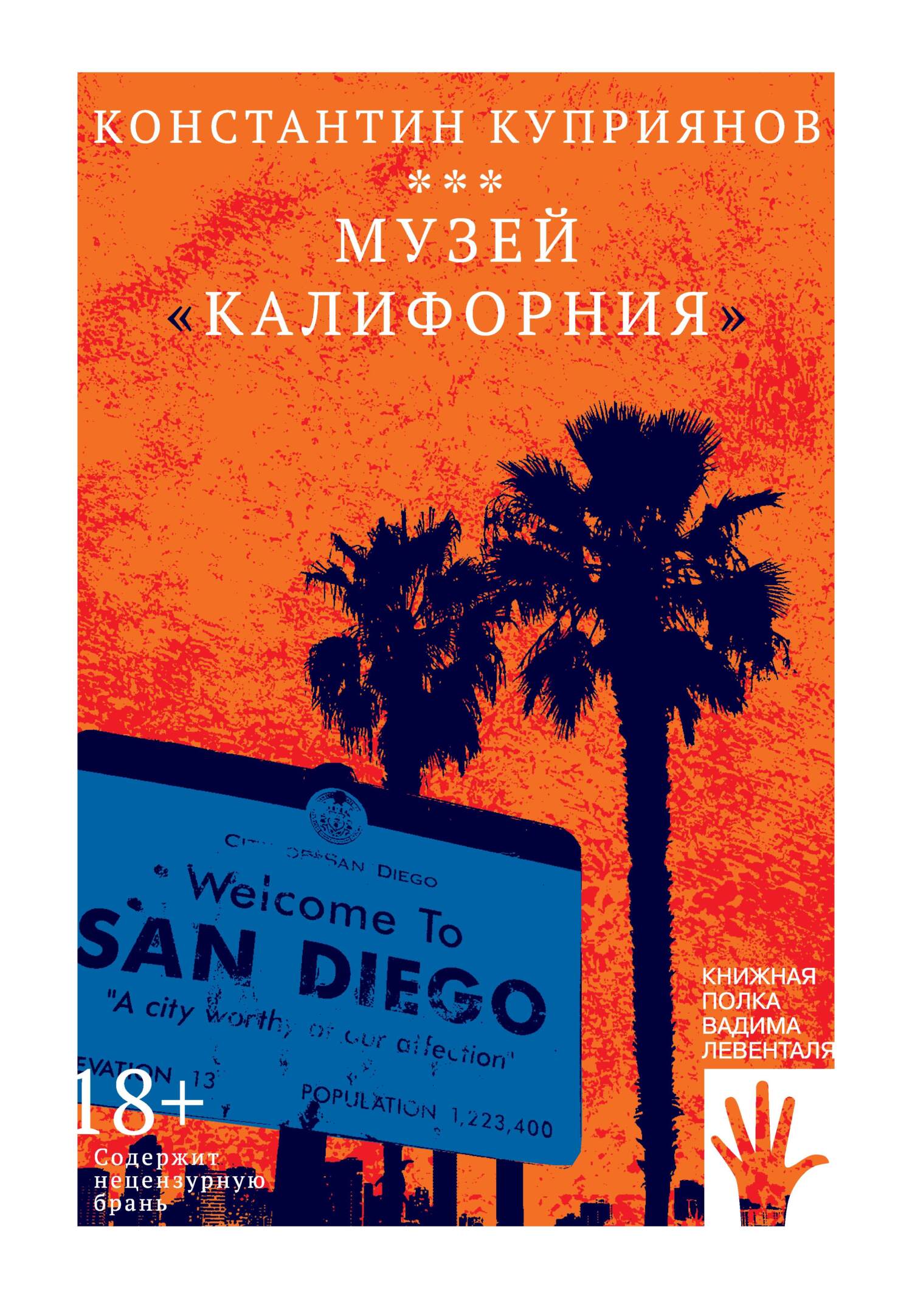Шрифт:
Закладка:
И. А. Ильин – выдающийся русский мыслитель XX века. В 1922 году большевики приговорили его к расстрелу, заменив смертную казнь высылкой из страны. Все годы жизни на чужбине – более 30 лет – Ильин не переставал верить в грядущее процветание России, искал пути ее духовно-исторического возрождения.Трудно назвать сферу духовной и общественной жизни, которой бы не коснулся Ильин, размышляя о будущей судьбе своего Отечества. Национальная идея, государственное устройство, культура и религия, экономика и наука, семья и воспитание детей… И конечно же вечная тема духовного преображения человека.В сборнике представлены различные стороны обширного наследия И. А. Ильина: это наиболее известные речи и статьи философа, главы из книг «Путь духовного обновления» и «Путь к очевидности» и мудрые и поэтичные эссе из сборников художественно-философской прозы «Поющее сердце» и «Я вглядываюсь в жизнь».Цикл статей «О России (Три речи)» включен в перечень «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению».Для старшего школьного возраста.