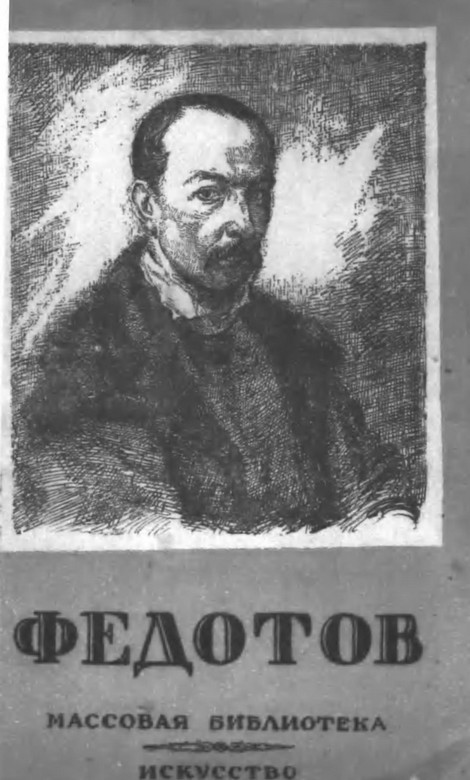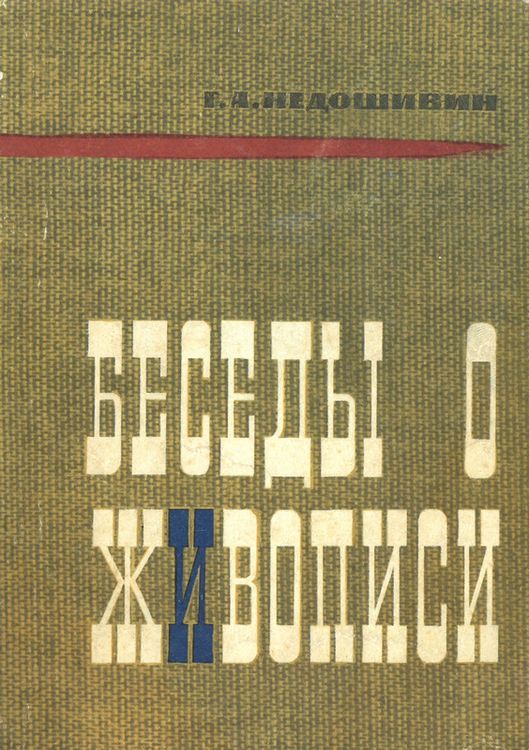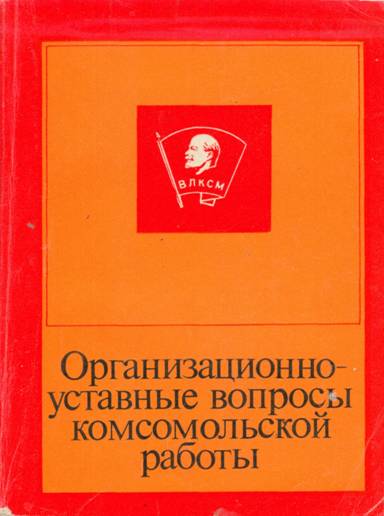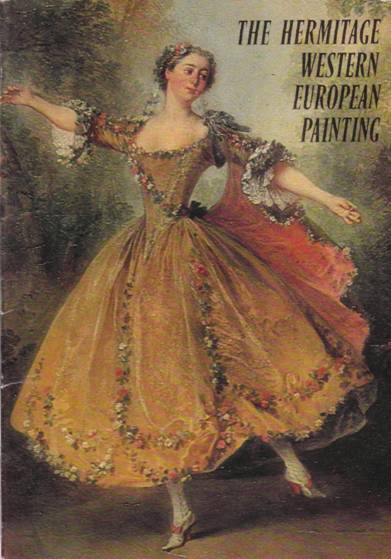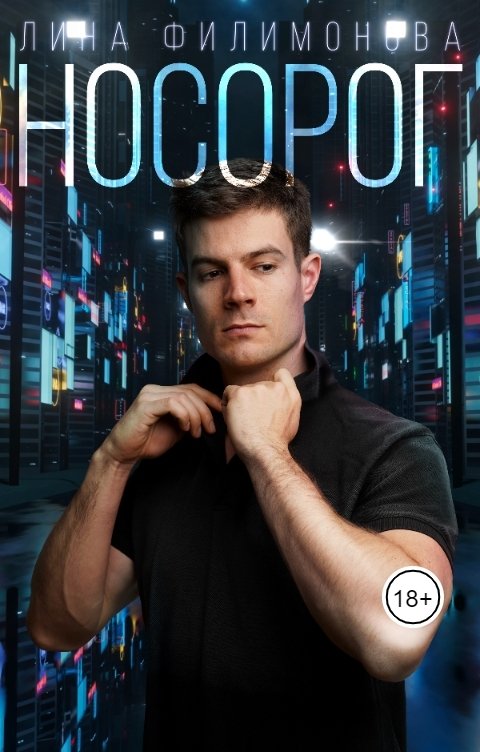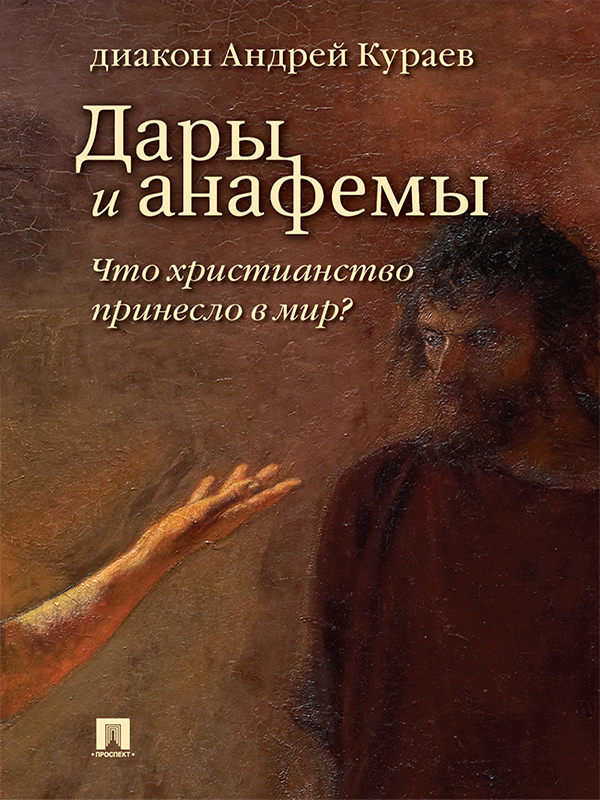Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Герман Александрович Недошивин (1910—1983) — советский искусствовед, теоретик искусства, специалист по западноевропейской живописи, профессор МГУ. Его научно-популярная книга "Беседы об искусстве" обращена в первую очередь к молодежи и неспециалистам, которые хотели бы немного разобраться в том, как понимать произведения живописи. Доступно и наглядно, с применением иллюстраций, рассказывается, как нужно смотреть и видеть живопись, какими средствами она пользуется, о ее основных жанрах и видах.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Герман Александрович Недошивин»: