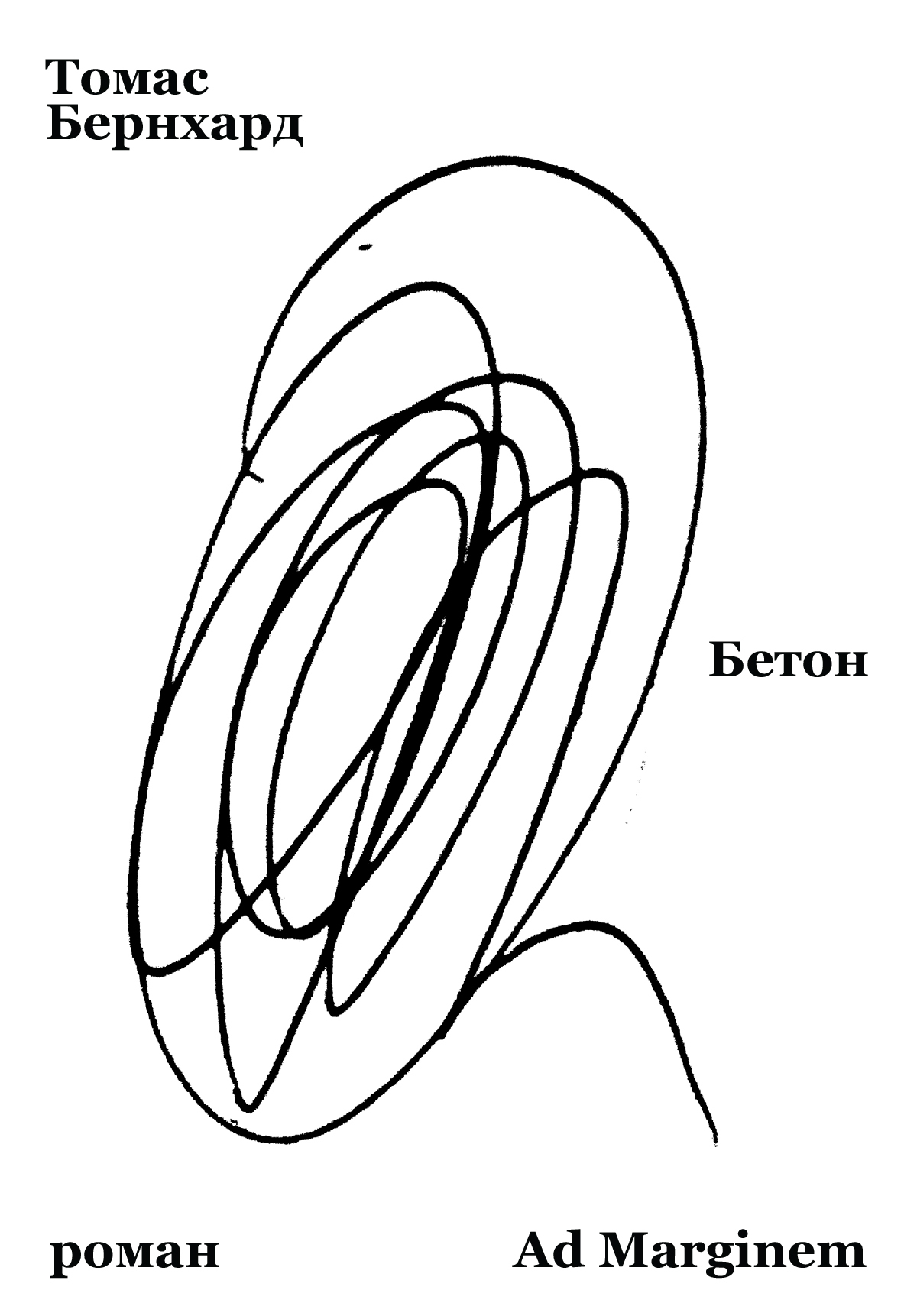Шрифт:
Закладка:
Роман «Бетон» был написан Томасом Бернхардом (1931-1989) в 1982 году на одном дыхании: как и рассказчик, автор начинает работу над рукописью зимой в Австрии и завершает весной в Пальма-де-Майорке. Рассыпав по тексту прозрачные автобиографические намеки, выставив напоказ одни страхи (животный страх задохнуться, замерзнуть, страх чистого листа) и затушевав другие (бедность, близость), он превратил исповедь больного саркоидозом героя в поистине барочный фарс, в котором смерть и меланхолия сближаются в последней пляске. Можно читать этот безостановочный нарциссический спич как признания на кушетке психоаналитика, как типично австрийскую логико-философскую монодраму, семейный роман невротиков или буржуазную историю гибели одного семейства, главной темой всё равно остается музыка. Книга о невозможности написать книгу о композиторе Мендельсоне – музыкальное приношение Бернхарда модернизму, ставящее его в один ряд с мастерами «невыразимого» Беккетом, Пессоа, Целаном, Бахман.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.