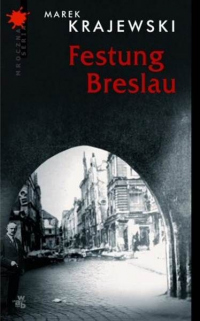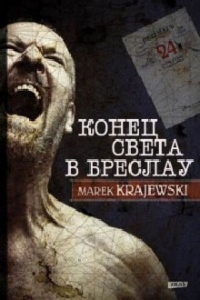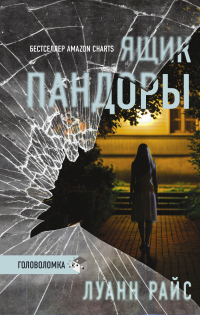Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Бреслау, весна 1945 года. Шестидесятидвухлетний, отстраненный от обязанностей офицер Эберхард Мок проводит частное расследование убийства падчерицы известной антифашистки. Умудренный жизнью герой бродит по бомбардируемому городу, постоянно подвергаясь смерти. Он должен выбирать между необходимостью выяснить ситуацию и желанием обеспечить безопасность своей жены, между побегом из Бреслау и пребыванием в городе. «Крепость Бреслау» — это мастерски выстроенный детектив, основанный на лучших традициях жанра, небанальный и удивительный. Изысканный слог создает загадочное настроение, напряженная интрига медленно раскрывает перед читателями свои тайны, персонажи интересны и неоднозначны. Краевский с необыкновенной точностью рисует картину давнего Вроцлава. На этот раз читатель также проходит через подземную часть города, превращенного немцами в твердыню. Постоянные читатели найдут в четвертой части цикла лучшее в нем, для новичков она, безусловно, станет началом читательского приключения.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Марек Краевский»: