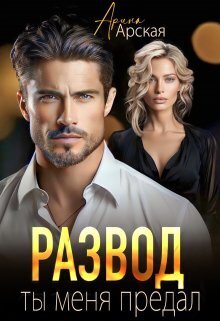Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
— Ты мне изменяешь! Я знаю! Гордей взгляда не отводит. Не бледнеет. Не краснеет. И не просит меня успокоиться или поговорить. — Ты так и будешь молчать?! — Ты сейчас скажешь, что требуешь развод, — он шагает мимо меня, а затем оглядывается. — А я должен ответить, что развода не будет? Ты этого ждешь? Подруга сказала, что видела моего мужа, с которым мы прожили пятнадцать лет в браке и родили двух детей, с другой женщиной. Он не стал оправдываться и ничего отрицать. Но беда не приходит одна.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Арина Арская»: