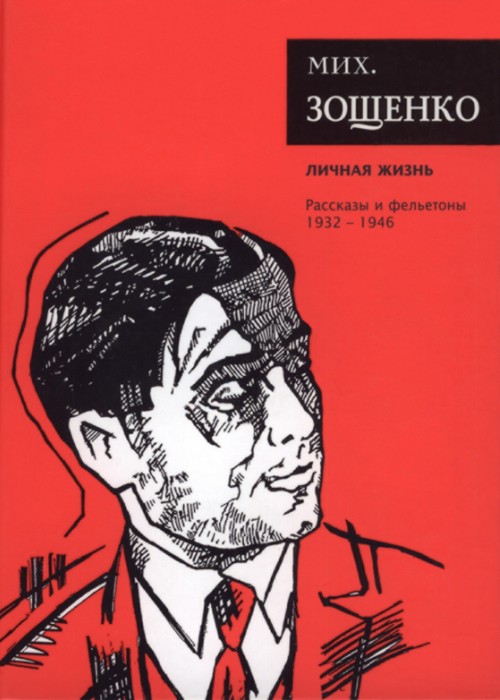Шрифт:
Закладка:
Луций Анней Сенека – крупнейший римский философ, первый представитель стоицизма в Древнем мире. Особую роль в формировании взглядов философа сыграл древнегреческий мыслитель Посидоний. В свою очередь, нравственная позиция и система ценностей Сенеки оказали сильное влияние на его современников и последующие поколения.Произведения Сенеки – всегда откровенный и развернутый «кодекс чести». Любой труд знаменитого философа разворачивает перед нами подробную картину его философии. Сенека поясняет, аргументирует и приглашает к диалогу. В его произведениях поднимаются вопросы, которые затрагивают категории жизни и смерти, счастья и горя, философии и математики: каким должен быть лучший признак уравновешенного ума? Как следует жить, чтобы не падать духом? Для чего человеку нужна философия? В чем разница между философией и математикой? Что приносит нам величайшие беды? Как исправить свою жизнь?В сборник вошли избранные «Нравственные письма к Луцилию», трагедии «Медея», «Федра», «Эдип», «Фиэст», «Агамемнон» и «Октавия» и философский трактат «О счастливой жизни».