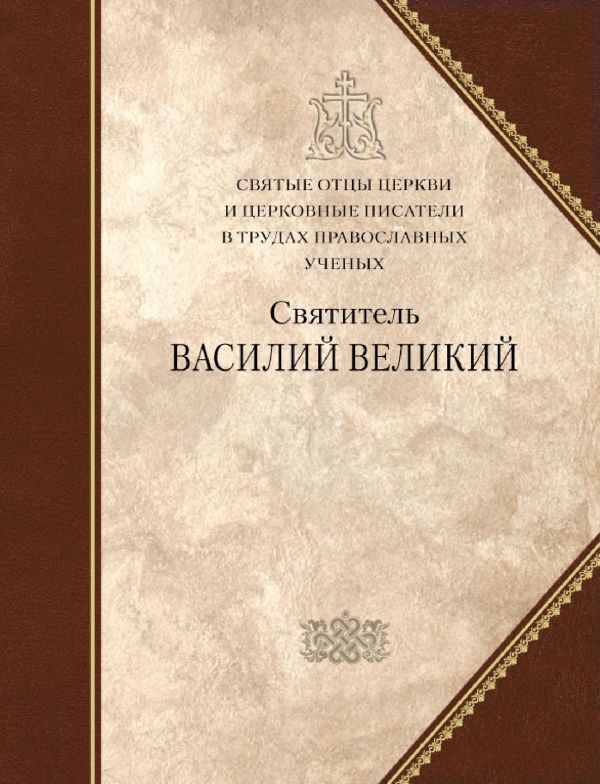Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Розанов утверждает новый вид литературы – спонтанной, обрывочной, интимной, практически домашней, где истончается граница между автором и читателем. Но, пытаясь преодолеть традиционную литературу, писатель ощущает, как литература преодолевает его самого.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Васильевич Розанов»: