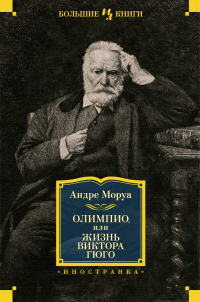Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Унижение, проникнув в нашу кровь, циркулирует там до самой смерти; мое причиняет мне страдания до сих пор». В своем новом романе Ян Муакс, обладатель Гонкуровской премии, премии Ренодо и других наград, обращается к беспрерывной тьме своего детства. Ныряя на глубину, погружаясь в самый ил, он по крупицам поднимает со дна на поверхность кошмарные истории, явно не желающие быть рассказанными. В двух частях романа, озаглавленных «Внутри» и «Снаружи», Ян Муакс рассматривает одни и те же годы детства и юности, от подготовительной группы детского сада до поступления в вуз, сквозь две противоположные призмы. Дойдя до середины, он начинает рассказывать сначала, наполняя свою историю совсем иными красками. И если «снаружи» у подрастающего Муакса есть школа, друзья и любовь, то «внутри» отчего дома у него нет ничего, кроме боли, обид и злости. Он терпит унижения, издевательства и побои от собственных родителей, втайне мечтая написать гениальный роман. Что в «Орлеане» случилось на самом деле, а что лишь плод фантазии ребенка, ставшего писателем? Где проходит граница между автором и юным героем книги? На эти вопросы читателю предстоит ответить самому.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ян Муакс»: