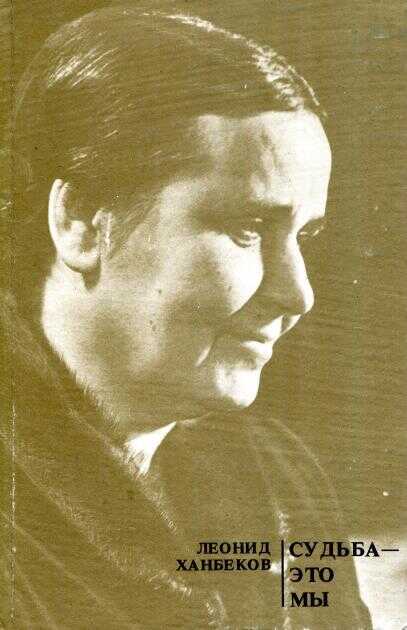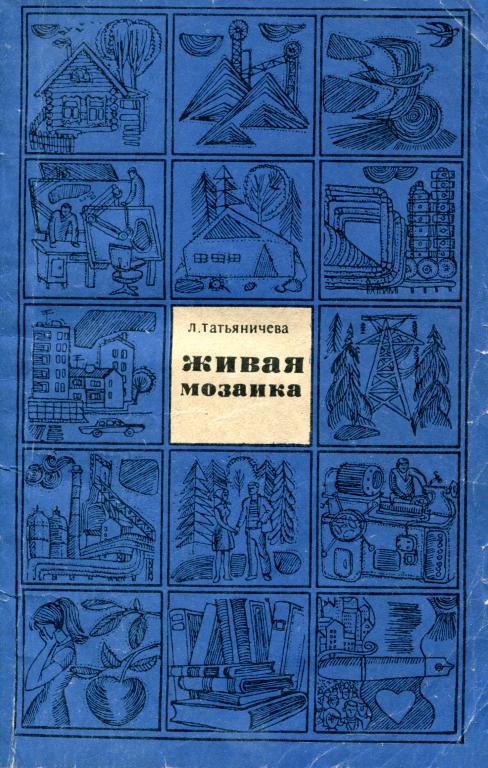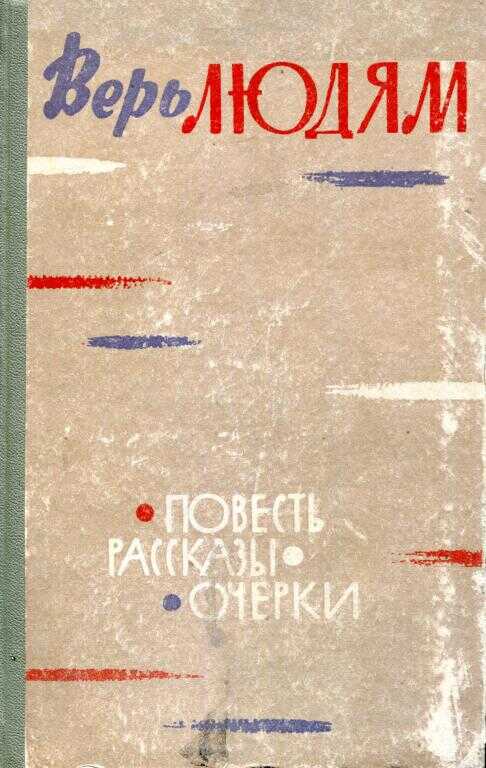Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книге воссоздается жизненный и творческий путь известной советской поэтессы, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького Людмилы Константиновны Татьяничевой (1915—1980 гг.) Книга адресуется широкому кругу любителей поэзии.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Леонид Васильевич Ханбеков»: