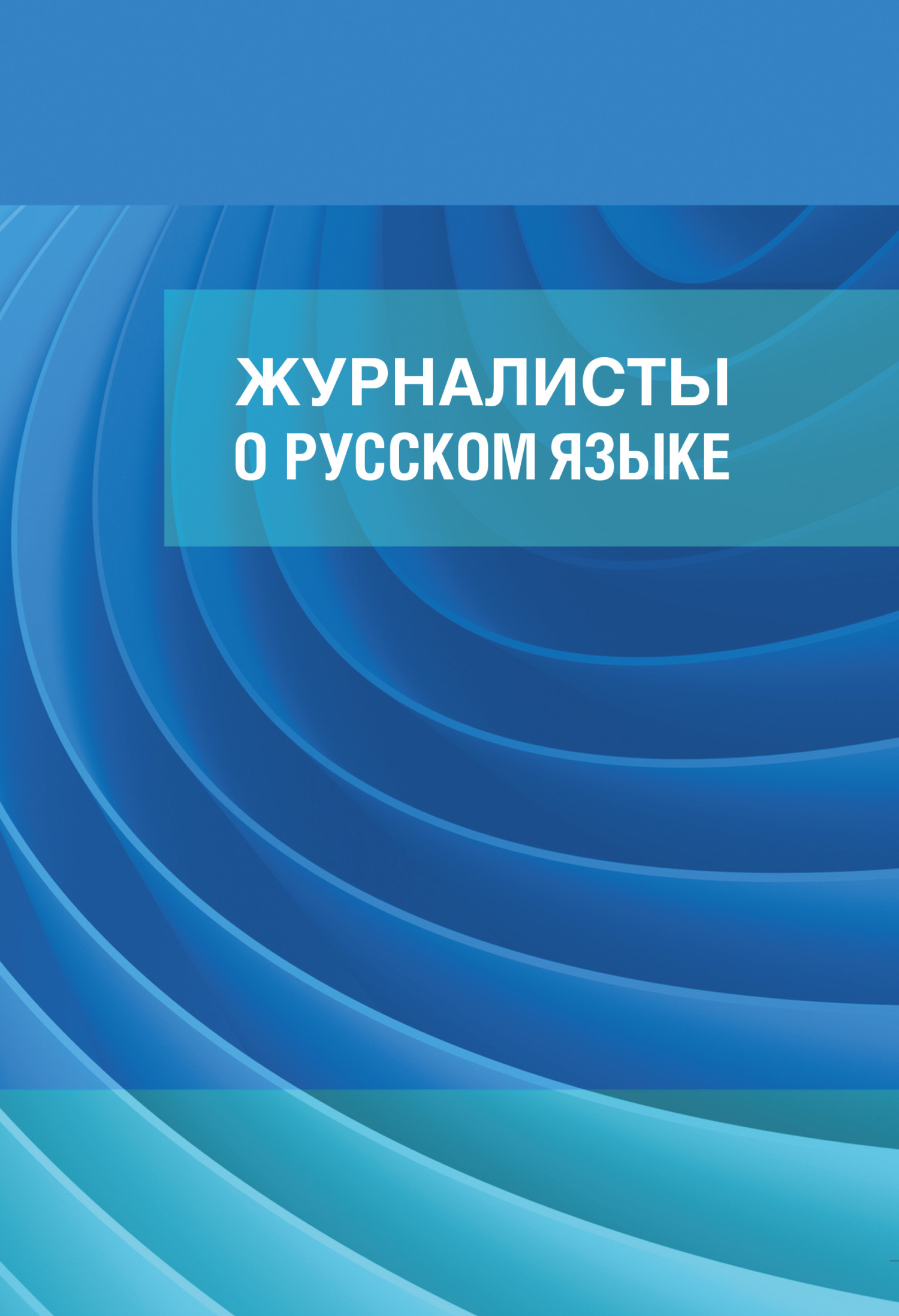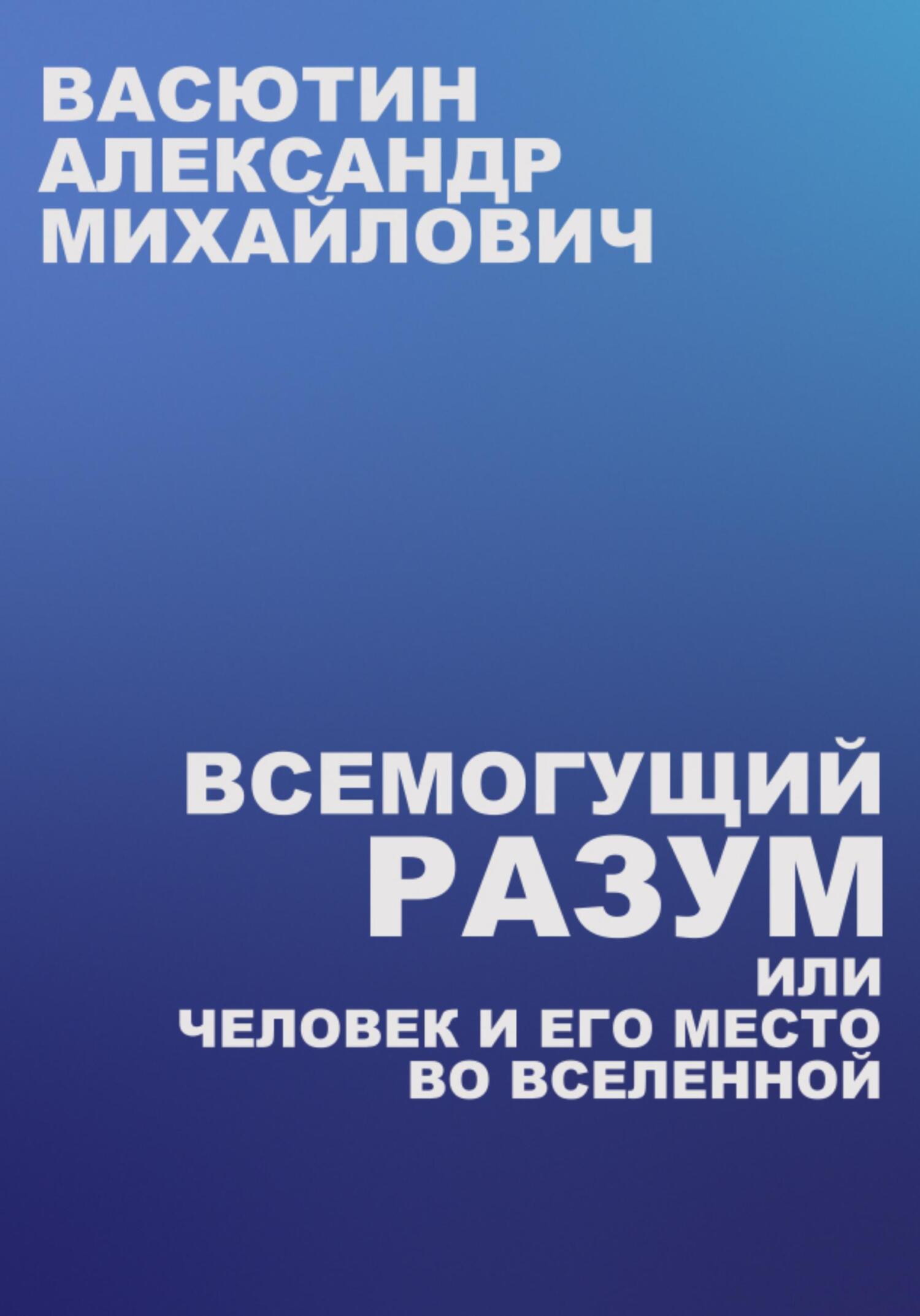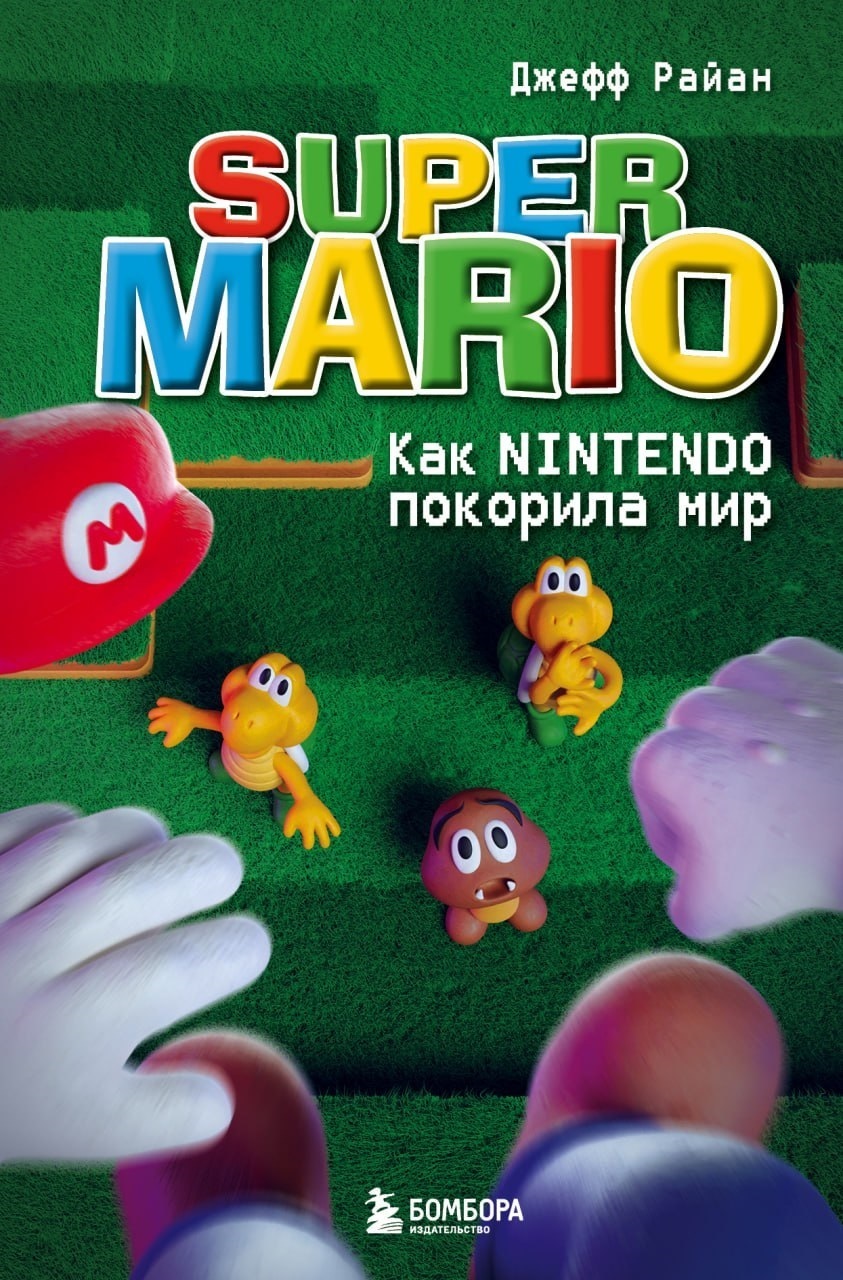Шрифт:
Закладка:
Книга «От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности» Гершома Шолема – это автобиографический роман, в котором известный исследователь каббалы и еврейской мистики рассказывает о своем жизненном пути и духовном поиске.
В книге он описывает свое детство и юность в Берлине, где он родился в 1897 году в ассимилированной еврейской семье. Он рассказывает о своем интересе к литературе, философии, истории и религии, о своих друзьях и учителях, о своих первых столкновениях с антисемитизмом и нацизмом.
Он также рассказывает о своем открытии для себя каббалы – древней традиции еврейской мистики, которая стала его страстью и призванием. Он рассказывает о своих путешествиях по Европе, где он изучал редкие источники по каббале, о своих встречах с выдающимися учеными и мыслителями, о своих спорах и дискуссиях с ними.
Он также рассказывает о своем переезде в Иерусалим в 1923 году, где он стал одним из основателей Еврейского университета и профессором каббалы. Он рассказывает о своем участии в развитии научного изучения еврейской мистики, о своем вкладе в создание еврейской культуры и образования, о своем отношении к сионизму и Израилю.
Книга «От Берлина до Иерусалима. Воспоминания о моей юности» Гершома Шолема – это уникальное свидетельство жизни и мысли одного из самых выдающихся еврейских ученых XX века. Это книга, которая заинтересует всех, кто хочет узнать больше о каббале, еврейской мистике и еврейской истории.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com. Познакомьтесь с удивительной жизнью и творчеством Гершома Шолема! Вы не пожалеете!