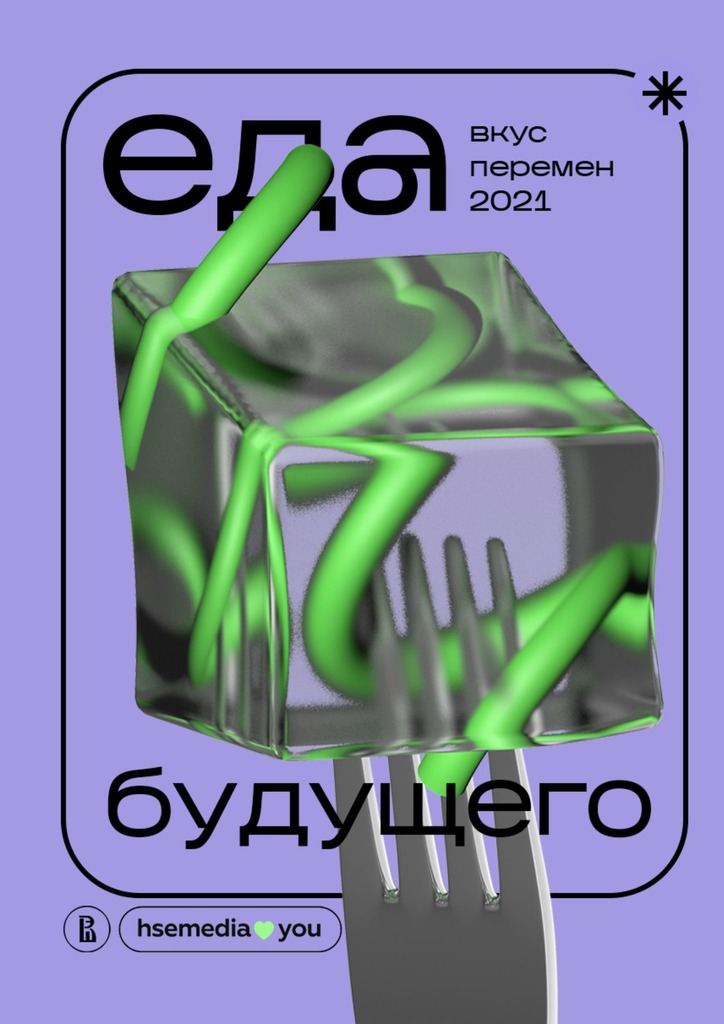Шрифт:
Закладка:
Вы думаете, что знаете своих близких? А если я вам скажу, что многие из них скрывают от вас свои настоящие чувства и мысли? В этой книге вы найдете несколько рассказов от известной советской писательницы Натальи Баранской, в которых она раскрывает тайны семейных отношений. Вы узнаете, как женщина-профессор страдает от одиночества и непонимания со стороны мужа и дочери. Вы увидите, как молодая девушка пытается найти свое место в жизни и любовь, но сталкивается с предательством и разочарованием. Вы познаете, как подросток-балерина борется за свою мечту, но теряет себя в лжи и самообмане.
Отрицательная Жизель - это книга для тех, кто хочет проникнуть в глубины человеческой души и понять мотивы поступков своих близких. Это книга для тех, кто не боится столкнуться с правдой и самостоятельно мыслить. Это книга для тех, кто любит психологическую прозу и узнавать новое.
Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и погрузиться в мир отрицательной Жизели.