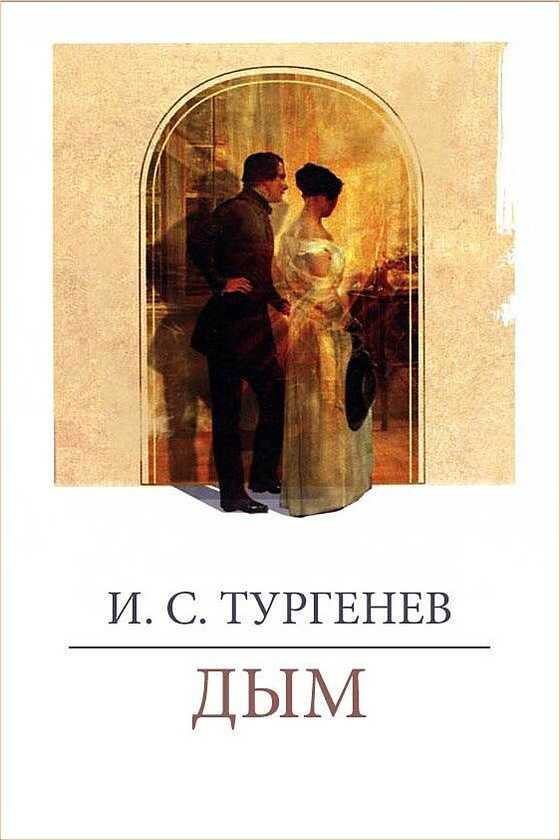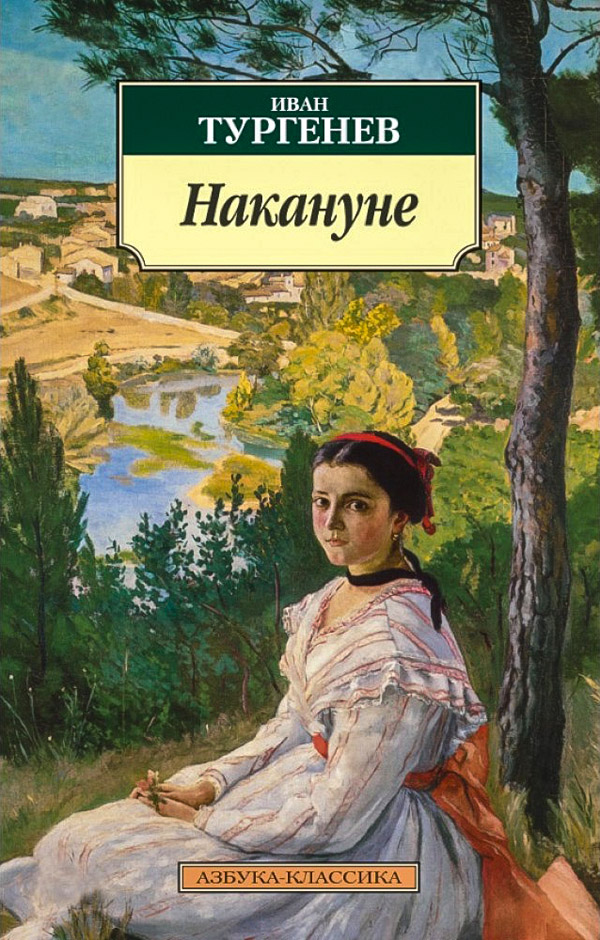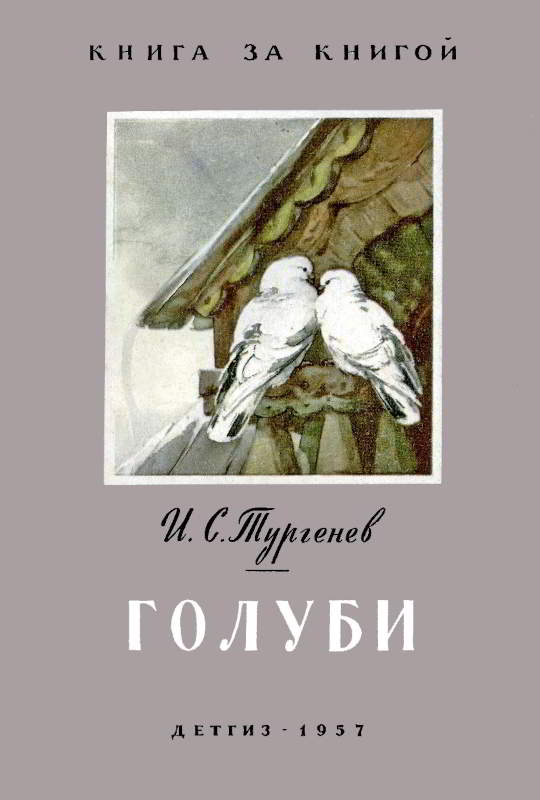Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Все великое земноеРазлетается, как дым…
Но добрые дела не разлетаются дымом, они долговечнее самой сияющей красоты… Безупречное литературное мастерство И. С. Тургенева соотносится со столь же безупречным знанием человеческой души. Он обогатил русскую литературу самыми пленительными женскими образами и восхитительными, поэтичными картинами природы. Иван Сергеевич Тургенев принадлежит к числу писателей, внесших наиболее значительный вклад в развитие русской литературы второй половины XIX в. Реальная картина современной жизни в его произведениях овеяна глубоким гуманизмом, верой в творческие и нравственные силы родного народа, в прогрессивное развитие русского общества.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Иван Сергеевич Тургенев»: