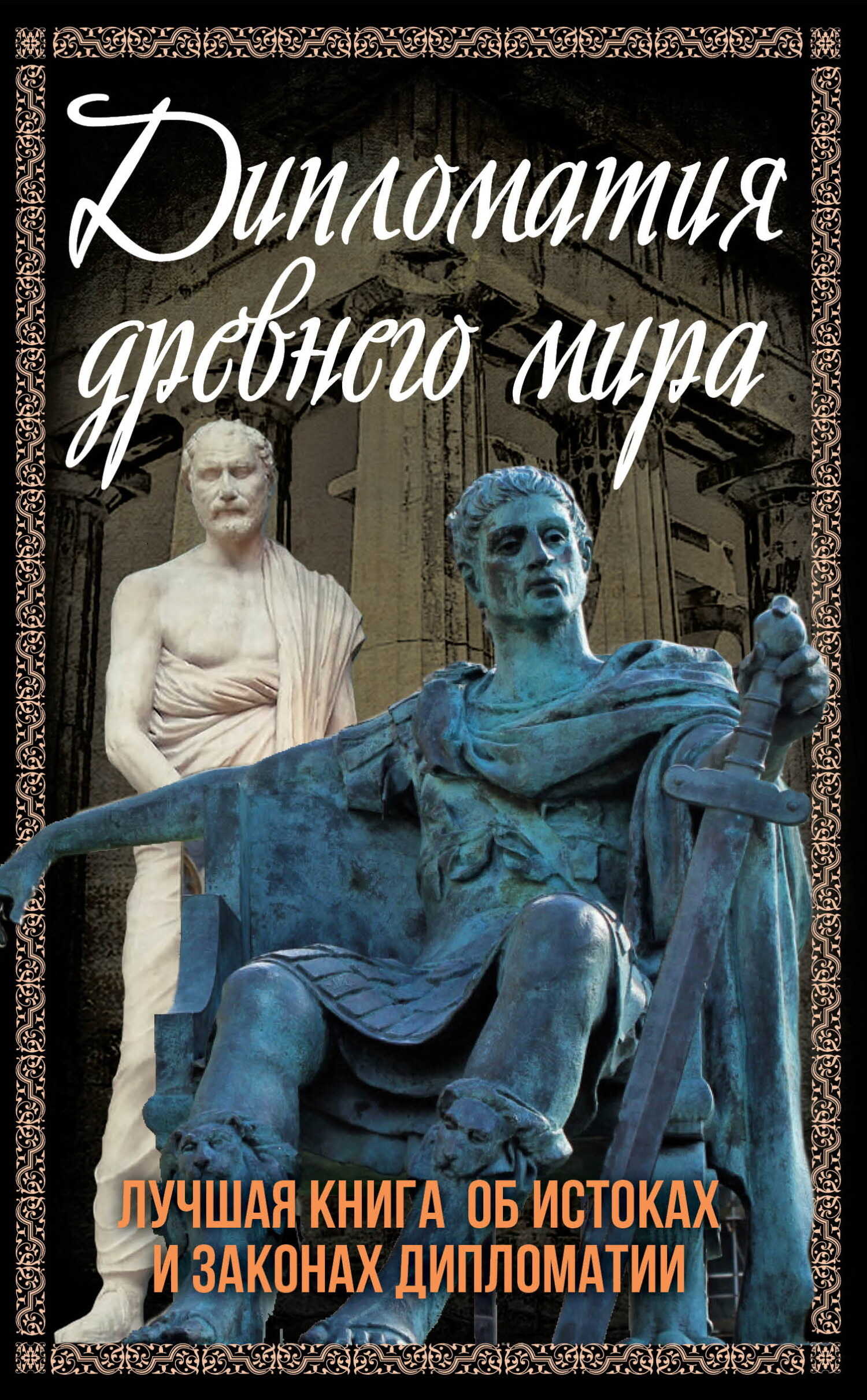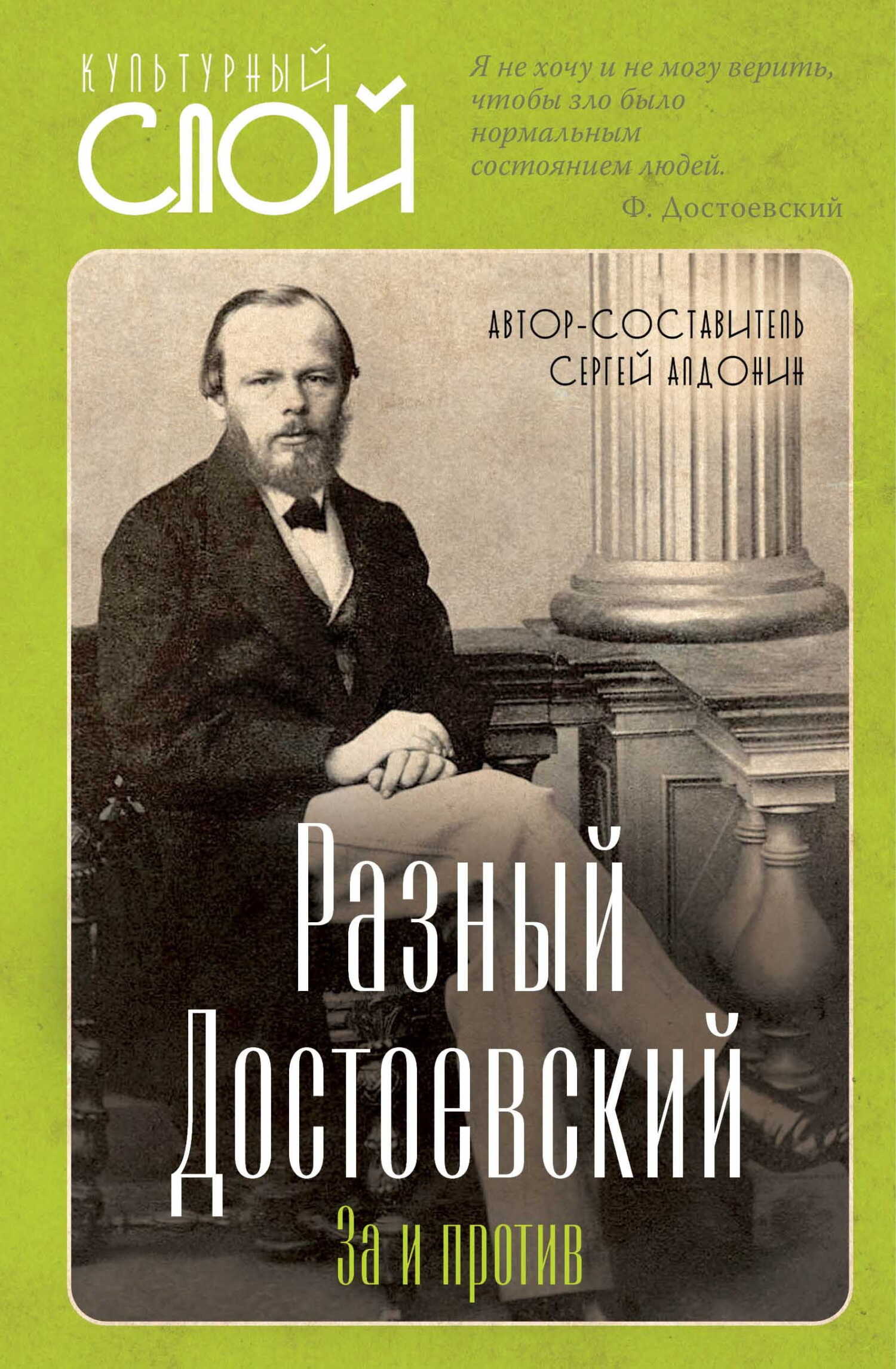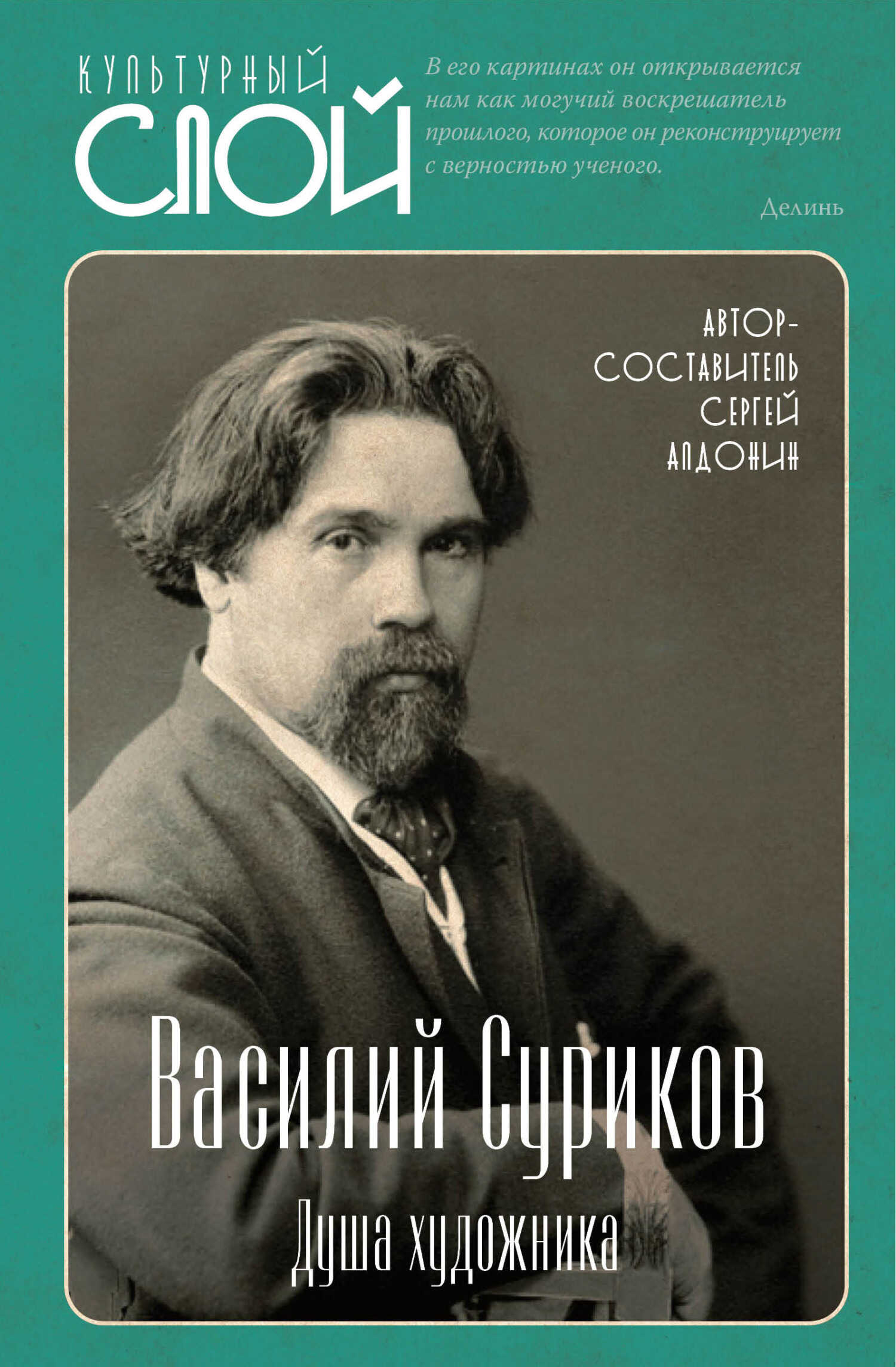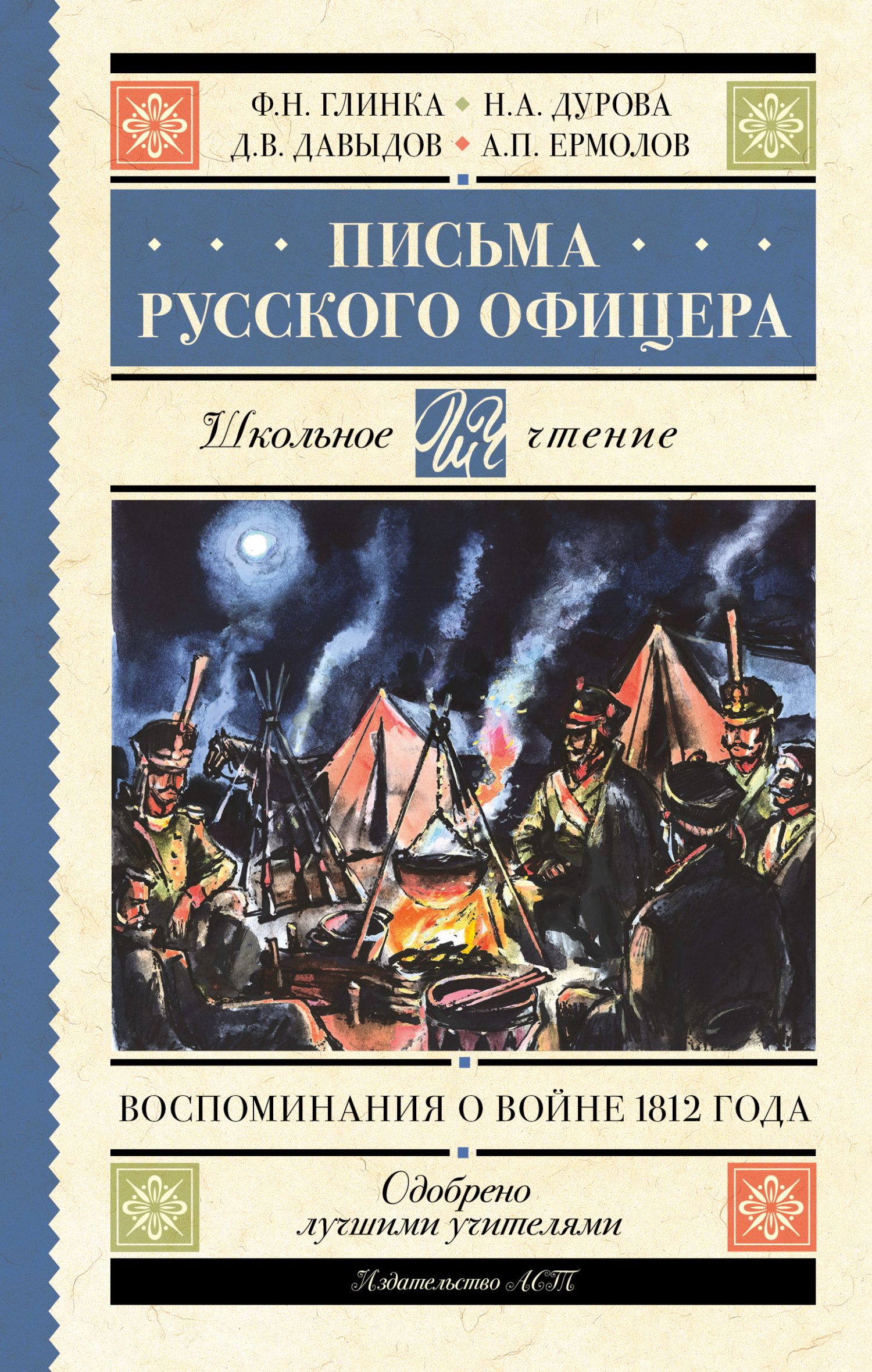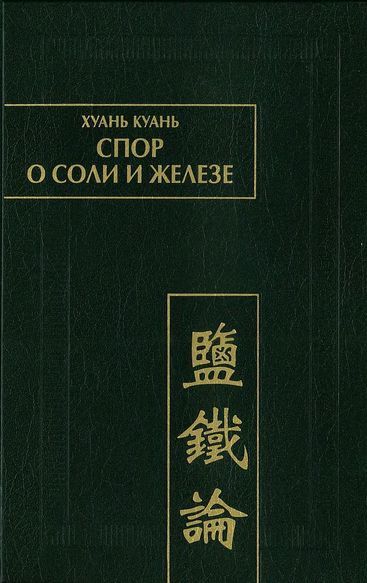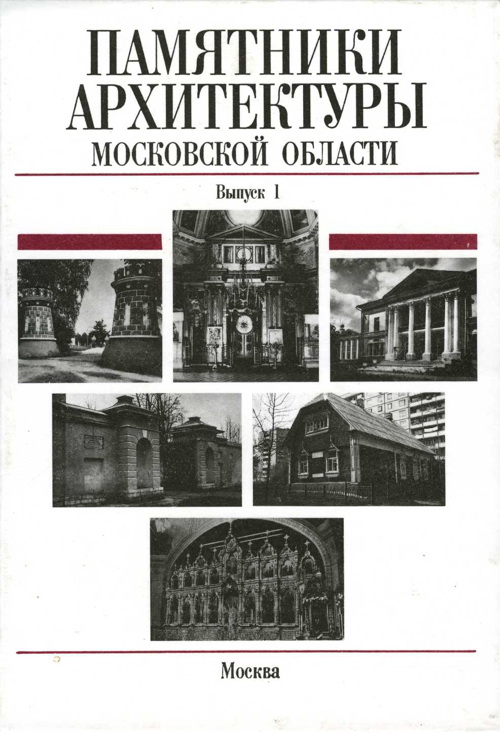Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Фёдор Достоевский – пожалуй, самый таинственный и спорный писатель всех времен. Не вызывает дискуссий только его гений. В этой книге собраны сенсационные и полярные мнения о нем. Для каждого из мыслителей у Достоевского была и черная, и светлая сторона. Он необыкновенно многогранен. Прочитав эту книгу, вы сумеете приоткрыть тайны великого писателя, создавшего свой мир со своими правилами.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Сергей Александрович Алдонин»: