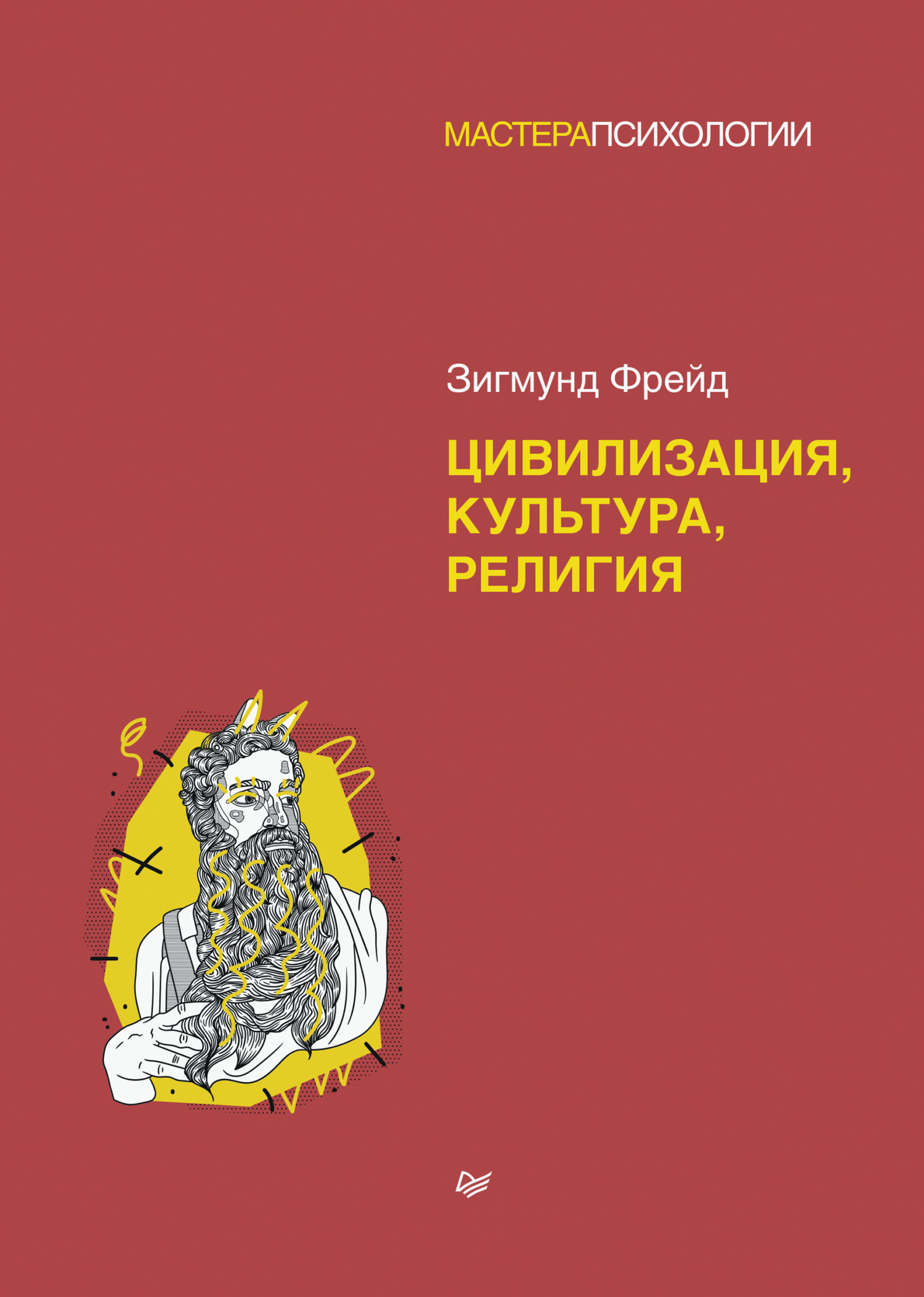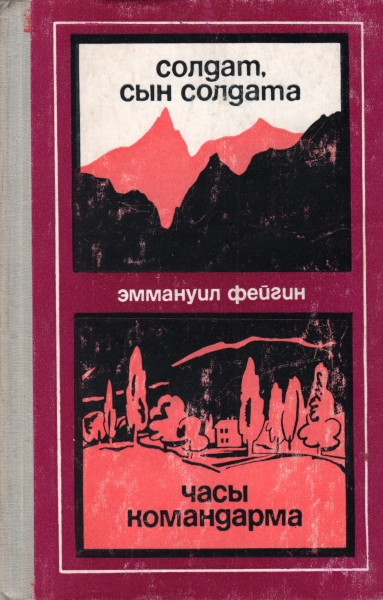Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Любая война — это страх, кровь и смерть. Но вдвойне страшнее, когда приходится воевать против вчерашних соседей, которые жили с тобой на одной территории, в одном государстве. Об одной из таких войн, второй чеченской, и рассказывает в своих произведениях молодой писатель, ветеран этой войны Вячеслав Немышев…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Вячеслав Валерьевич Немышев»: