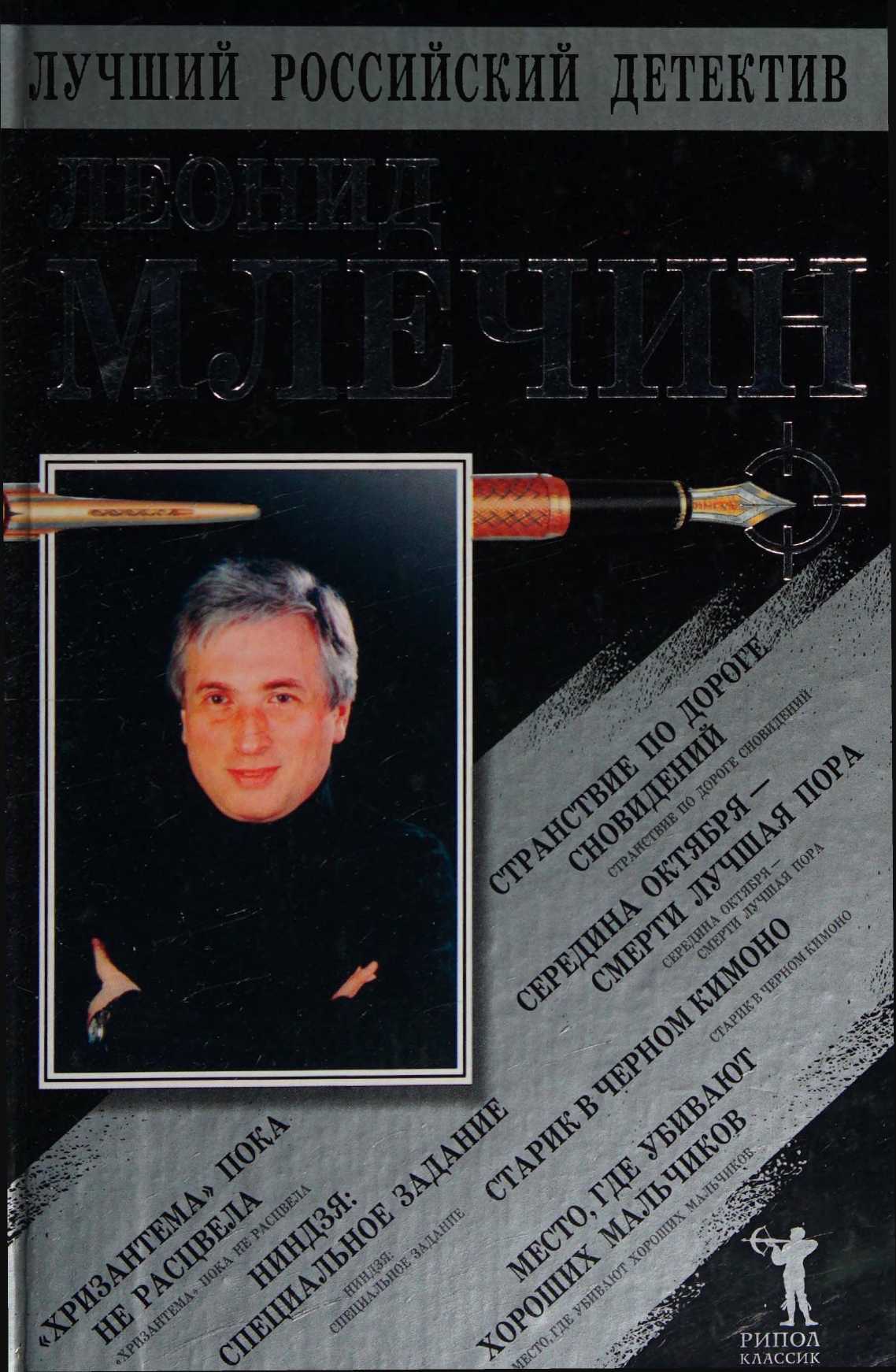Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Россия, весна 1986 года. Скоро — перестройка, взрыв на ЧАЭС. Бывший мент Русинский сталкивается с древней и могущественной расой астральных паразитов.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Цанг»:
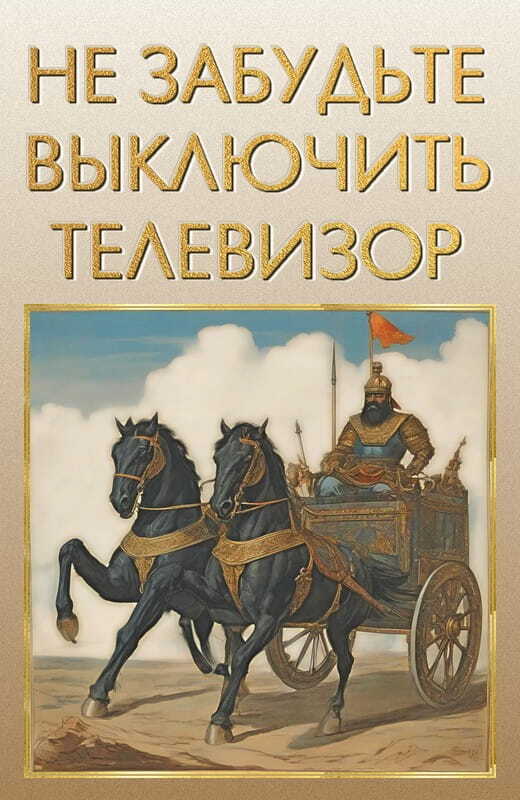

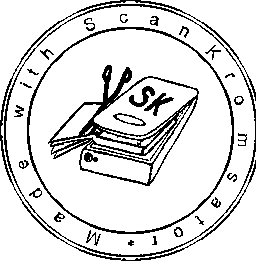

![Хроники забытых сновидений [litres] - Елена Олеговна Долгопят](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)