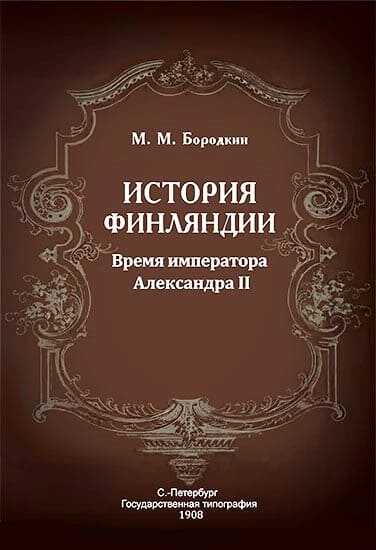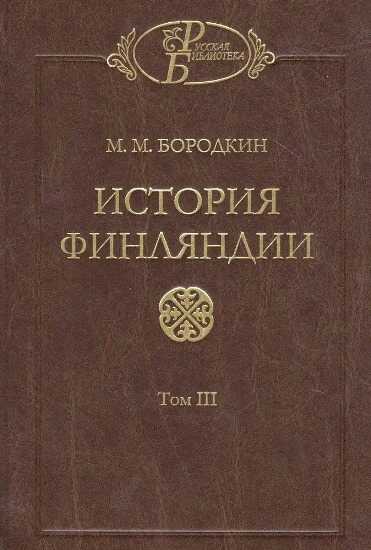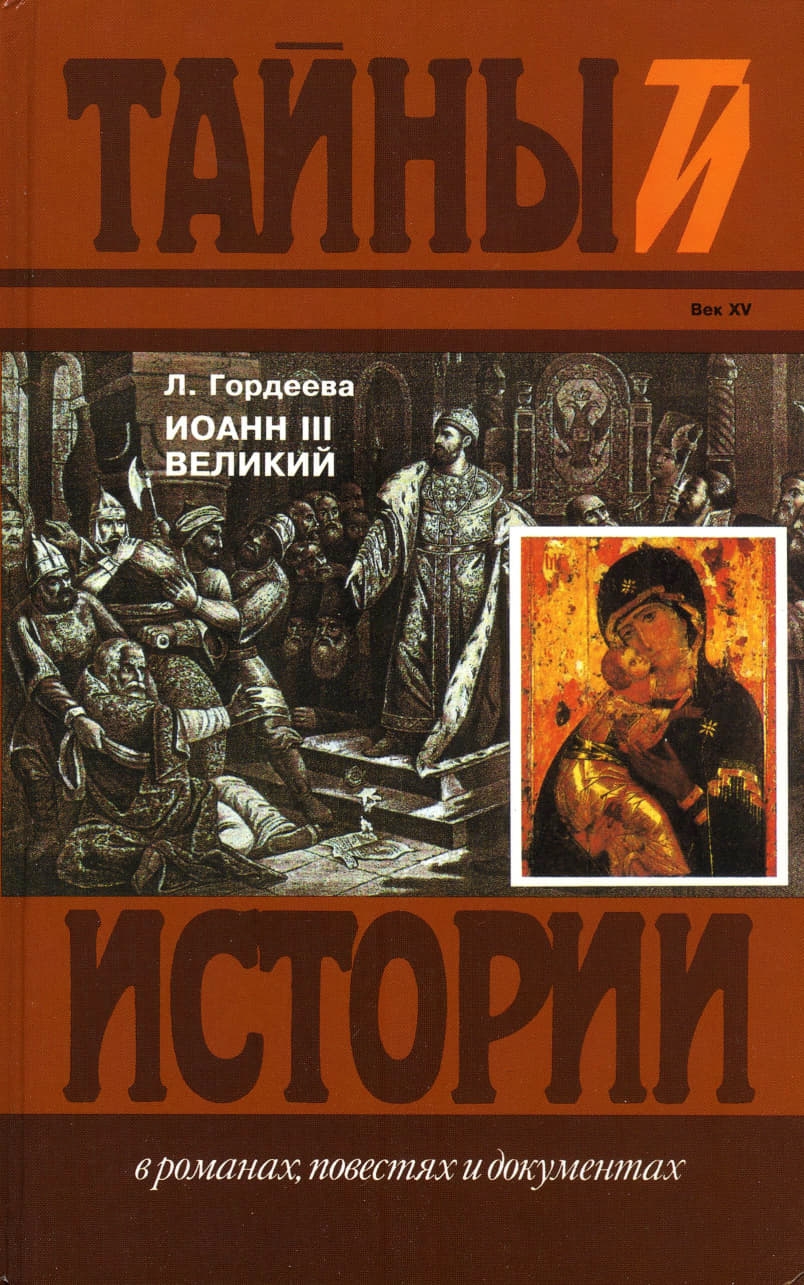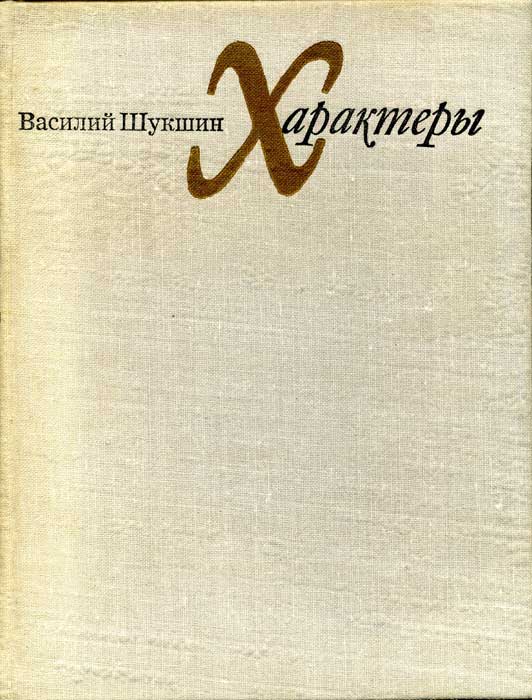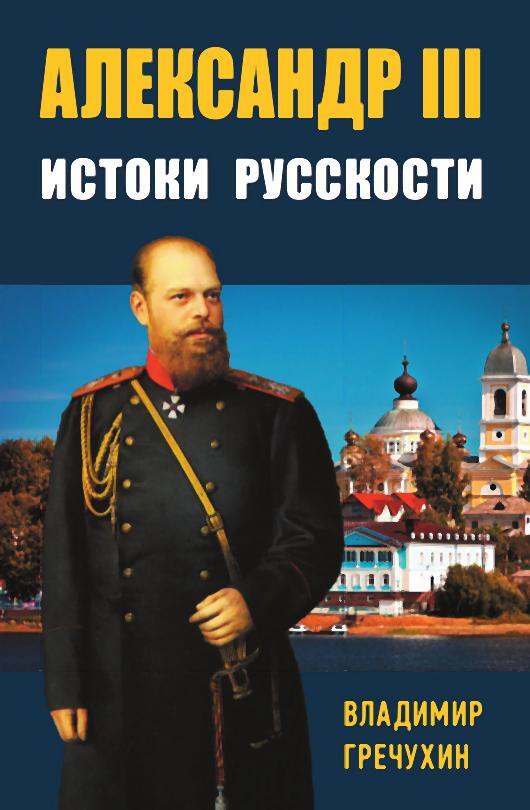Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В настоящем издании публикуется фундаментальное исследование по финской истории русского генерала и военного историка Михаила Михайловича Бородкина, ставшее, по его словам, «малой данью преклонения перед памятью могучего монарха» Петра Великого. Финляндия предстает здесь в первую очередь как поле сражений между Россией и Швецией за территориальное господство. Работа М. М. Бородкина будет интересна не только историкам, специализирующимся на проблемах русско-шведских отношений и становления Финляндии как независимого государства, но и всем тем, кто хочет больше узнать о прошлом Российской империи и о принципах ее «колониальной» политики. Вторая книга (том III) посвящена эпохе императрицы Екатерины II и императора Павла I.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Михаил Михайлович Бородкин»: