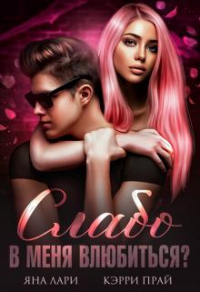Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Эта книга – третья в рамках совместного проекта издательской группы «ACT» и Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Современные писатели: Наринэ Абгарян, Каринэ Арутюнова, Любовь Баринова, Ирада Берг, Александр Бессонов, Светлана Волкова, Наталья Глазунова, Жука Жукова, Алексей Ладо, Виктория Медведева, Артак Оганесян, Елена Румянцева, Александр Цыпкин, Евгений Чеширко, Светлана Щелкунова – и подопечные Фонда рассказали о любви.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Жука Жукова»: