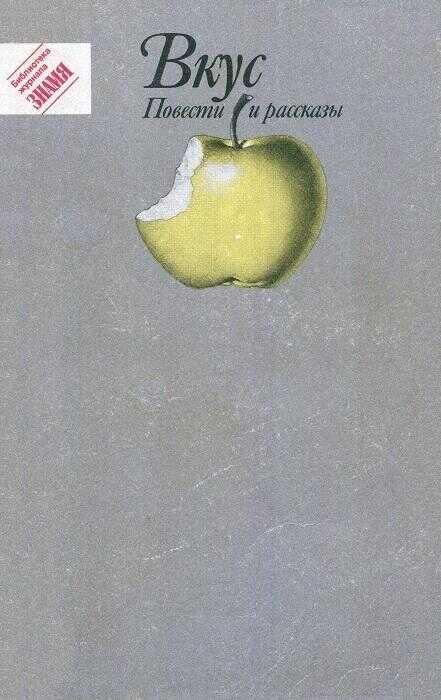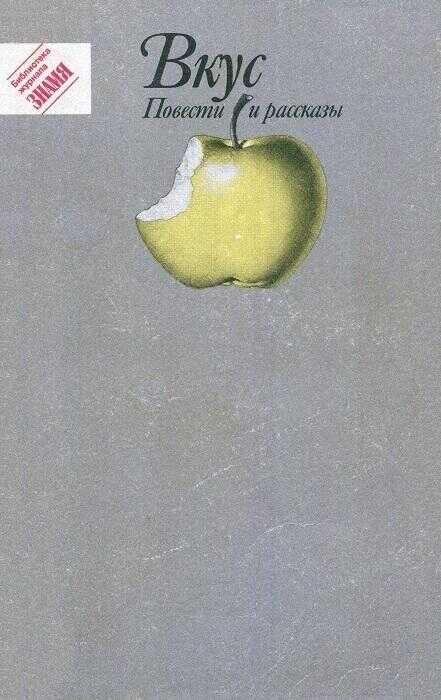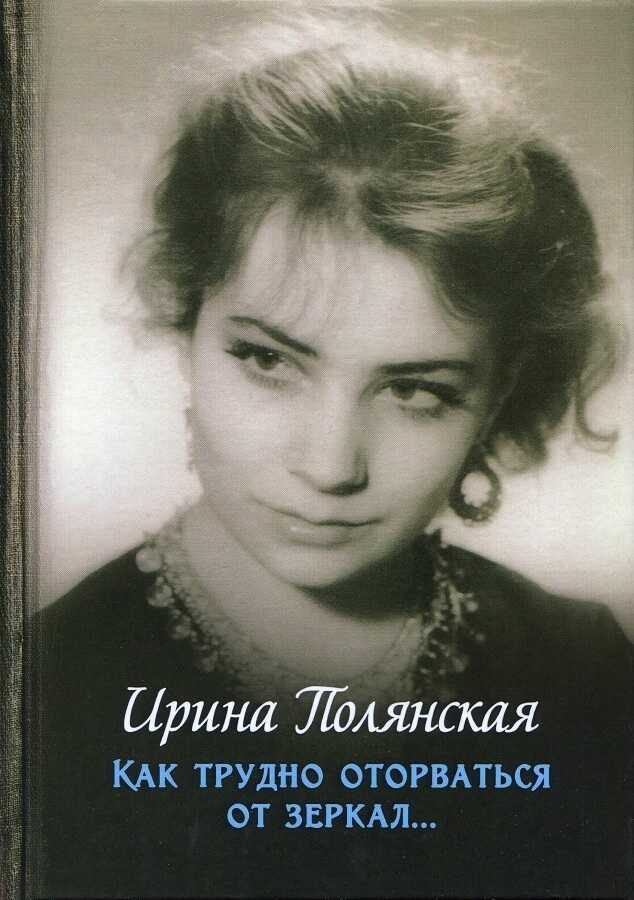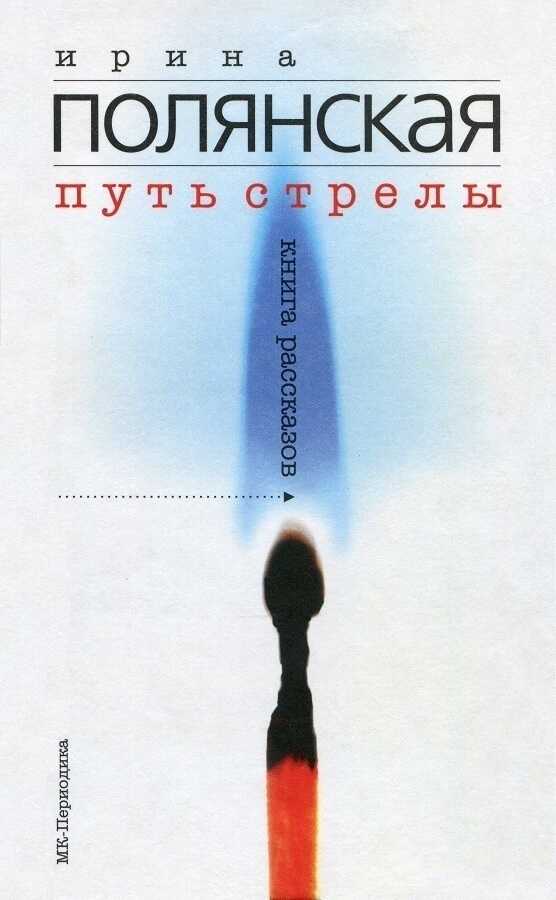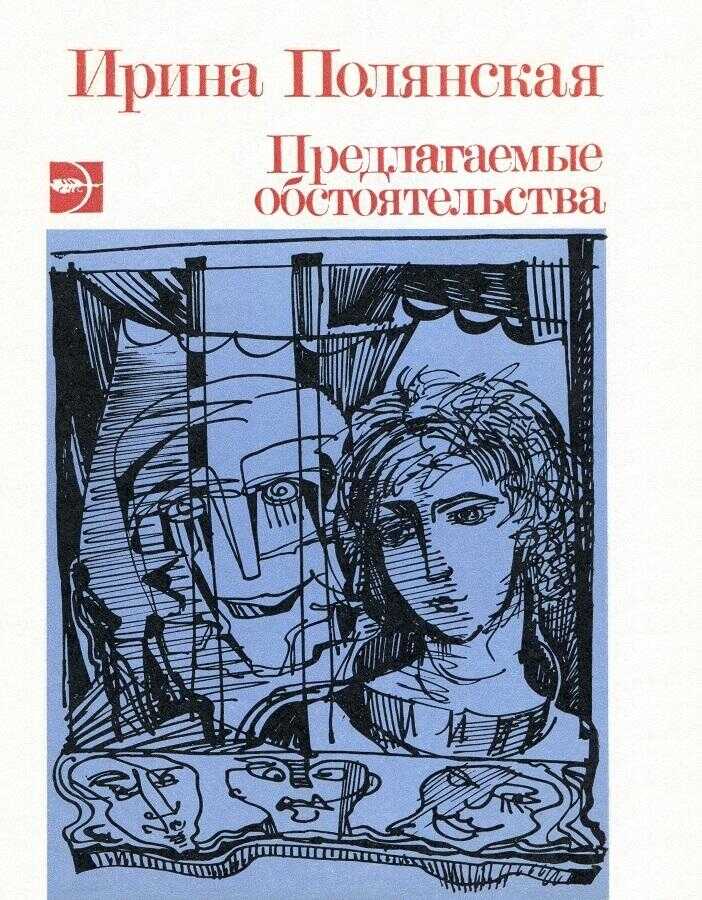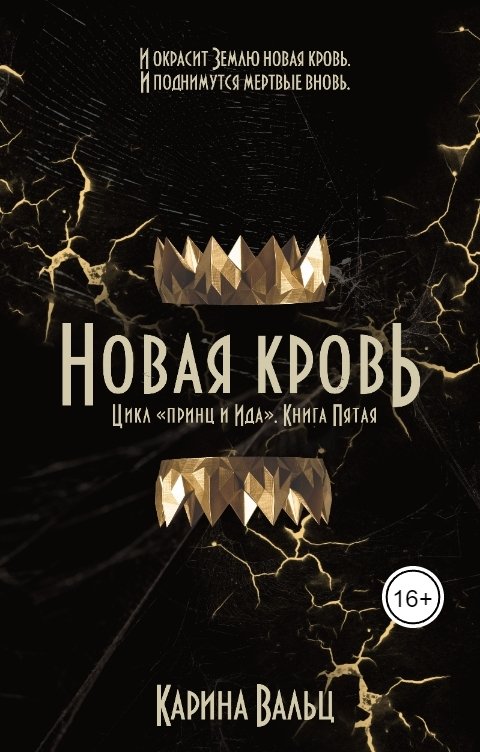Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
«Путь стрелы» — книга рассказов известной писательницы Ирины Полянской, лауреата премии журнала «Новый мир» (1997) и немецкой премии «Лига Артис» (1996, Лейпциг). Ее произведения издавались в США, Франции, Германии, Японии и Индии. Рассказы, собранные в книге «Путь стрелы», представляют фигуры судеб самых разных людей — сцепляясь, они выстраиваются в убедительное доказательство теоремы, говорящей об устройстве мироздания и месте в нем человека. Это не так называемая женская проза, это русская проза высокой пробы. Книга адресована всем интересующимся современной художественной литературой.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ирина Николаевна Полянская»: