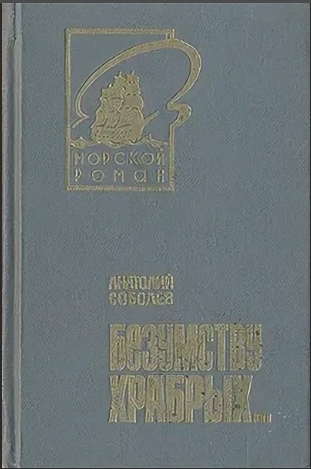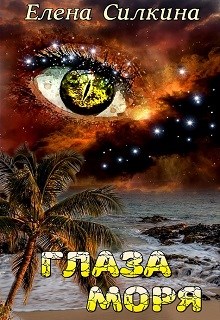Шрифт:
Закладка:
В авторский сборник советского писателя-мариниста Анатолия Соболева вошли две повести. "Безумству храбрых…" Эта повесть — о военных водолазах. Вчерашние школьники, они взрослели и мужали в грозный для Родины час. Автор семь лет был водолазом, провел под водой более 2000 часов, хорошо знает службу подводных мастеров, и это дало ему возможность написать правдивую повесть о безвестных и мужественных парнях, их работе на дне моря, где каждая минута требует храбрости и душевной стойкости не меньше, чем в бою. Встретить Победу многим не привелось. "Тихий пост" Подвиг - категория нравственная. И, может быть, всего ярче это проявляется не на миру, где и смерть красна, где рядом плечо товарища, а тогда, когда человек остается один на один с врагом, лицом к лицу со смертью. Побеждает не тот, кто физически силен, а кто духовно, нравственно, идейно непоколебим. В 1967 году на Всесоюзном конкурсе на лучшее военно-патриотическое произведение в честь пятидесятилетия Октября повесть удостоена первой премии. Для настоящего издания повесть переработана и дополнена.