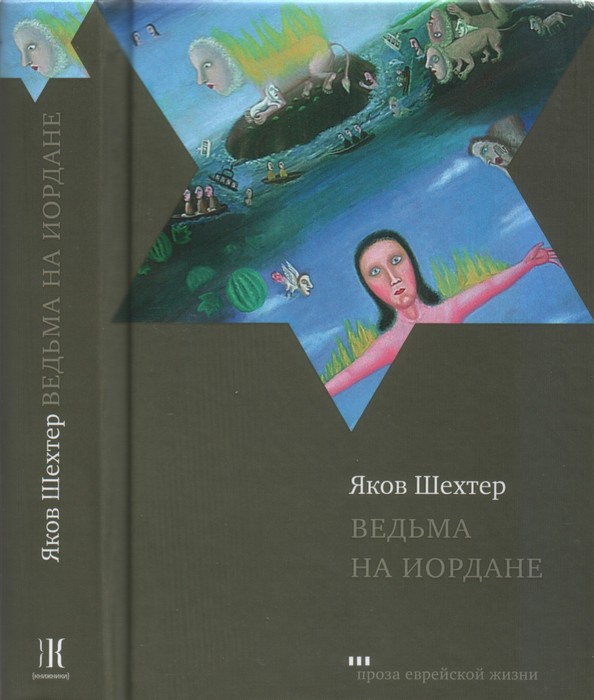Шрифт:
Закладка:
Новгородский отрок Афанасий воспитывается в монастыре как василиск – мститель и борец за восхождение на престол законного наследника – правнука великого Дмитрия Донского. Осуществить задуманное Афанасий не может. Не из-за трусости или бессилия – из-за равнодушия к трону престолонаследника. Обвиненный в ереси, Афанасий совершает побег и оказывается в Стамбуле, где открывает для себя эзотерические книги суфийских мудрецов. Ведомый судьбой, он не только атакует крепости госпитальеров Родосского архипелага, но и решает сложные вопросы: что есть вера и суеверие, как отличить друга от недруга, что есть грех и что – святость. Новые знания открывают перед ним невероятные возможности и становятся началом головокружительных приключений…«Хождение в Кадис» – историко-приключенческий роман о том, как мальчик из Новгорода превращается в пирата Барбароссу, а затем в толмача Христофора Колумба, первым ступившим на землю Америки. Экзотика, героика, романтика соединяются в романе с мистикой и тайнами древних учений.