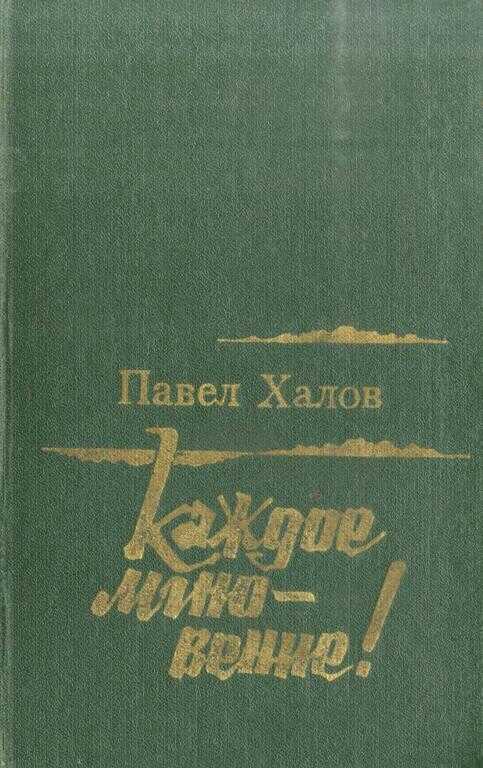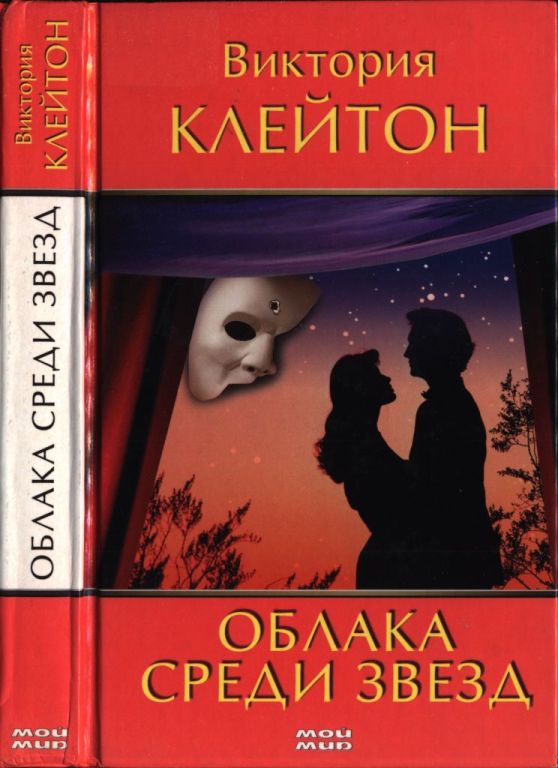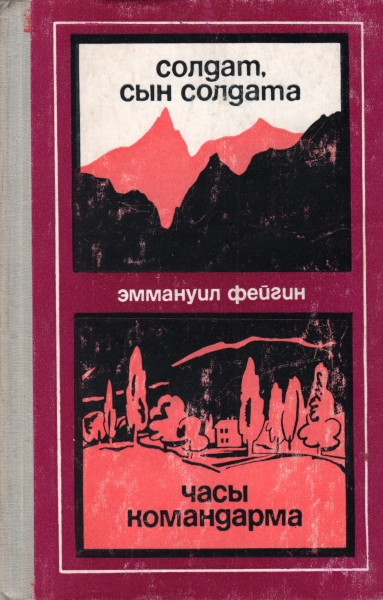Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новом романе известный дальневосточный писатель П. Халов продолжает разрабатывать основную свою тему — человек и его время, строительство человеческой личности и коллектива.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Павел Васильевич Халов»: