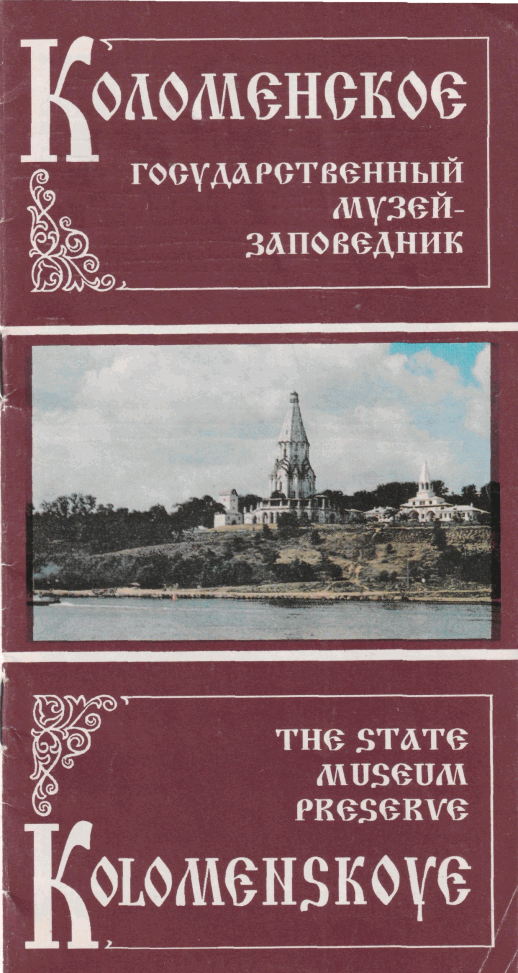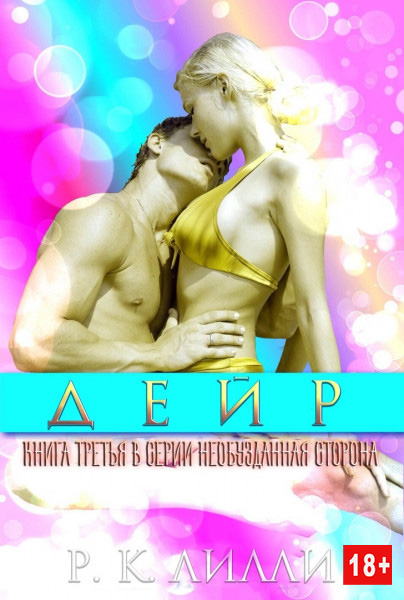Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Заповедник — это участок, где оберегаются и размножаются редкие и ценные растения, животные. И только? Сколько тайн и чудес хранит он в себе на самом деле? С какими особинками заповедной зоны предстоит столкнуться молодому егерю Славе и его наставнику Василь-Матвеву — в цикле рассказов "Былички старого егеря"
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Борис Алексеев»: