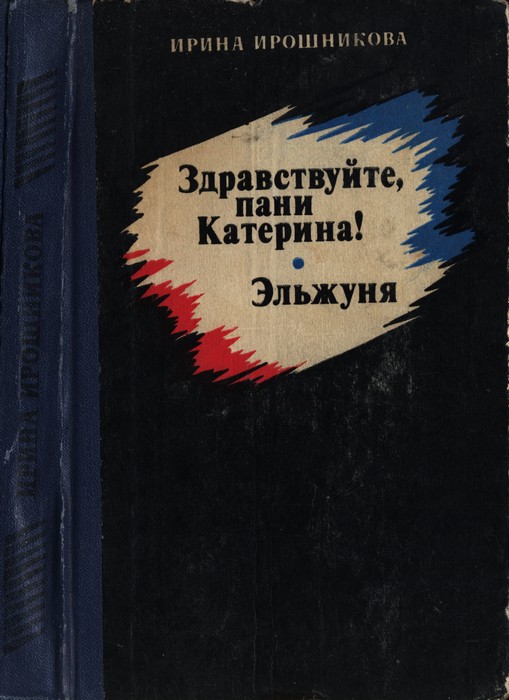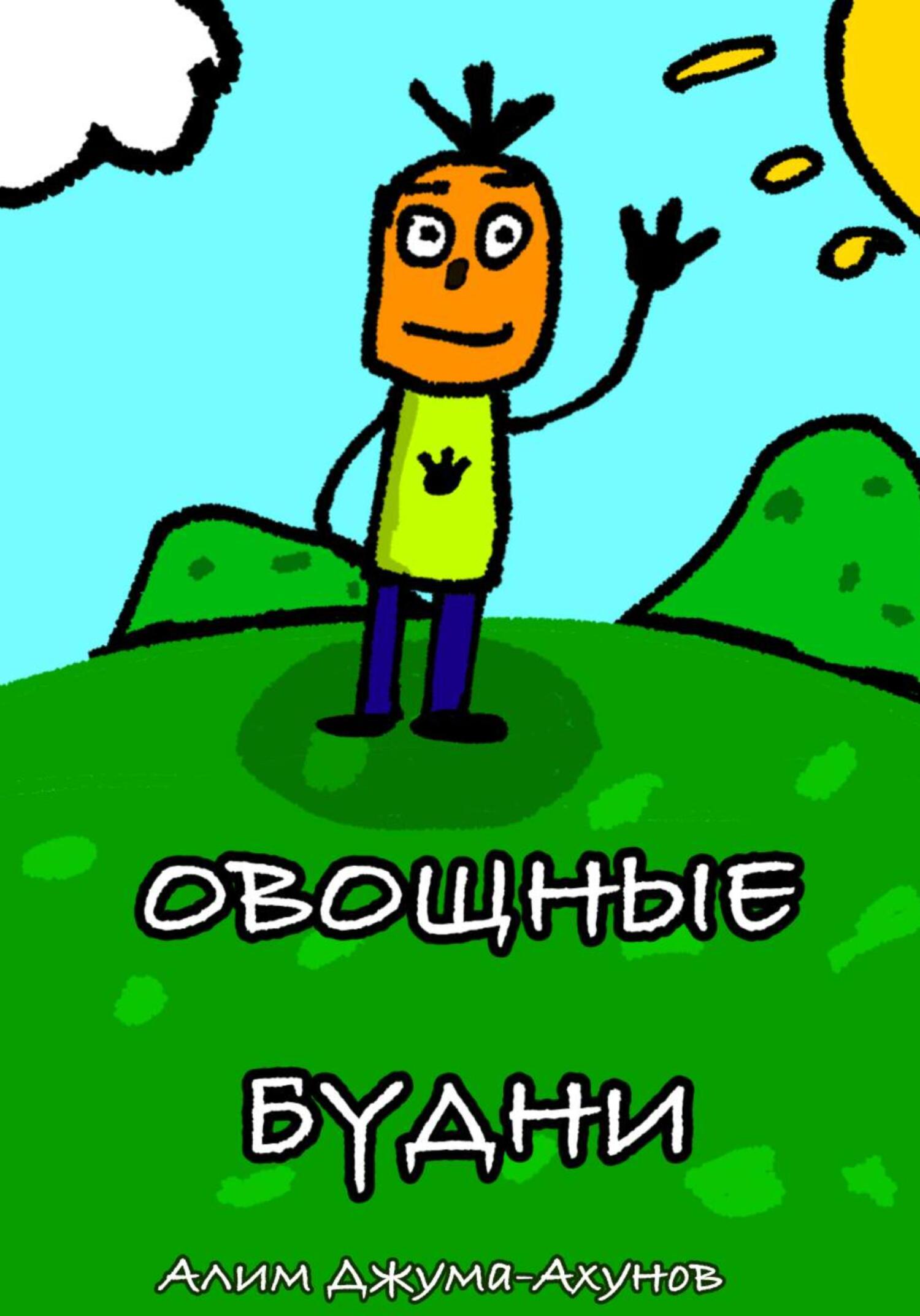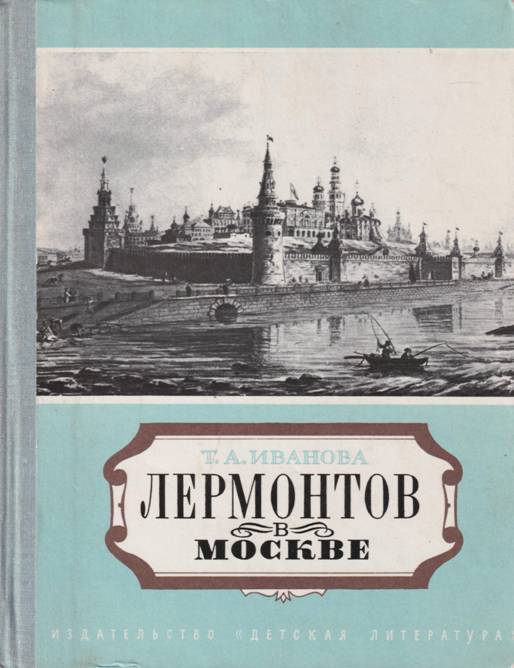Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Продолжение книги "Кто там стучится в дверь?" вышло в свет в 1983 году. Обе книги были изданы под одной обложкой и с заголовком "Полынь-трава. Роман в двух книгах".Текст первой книги в издании 1983 прошёл незначительную редакторскую правку.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Васильевич Кикнадзе»: