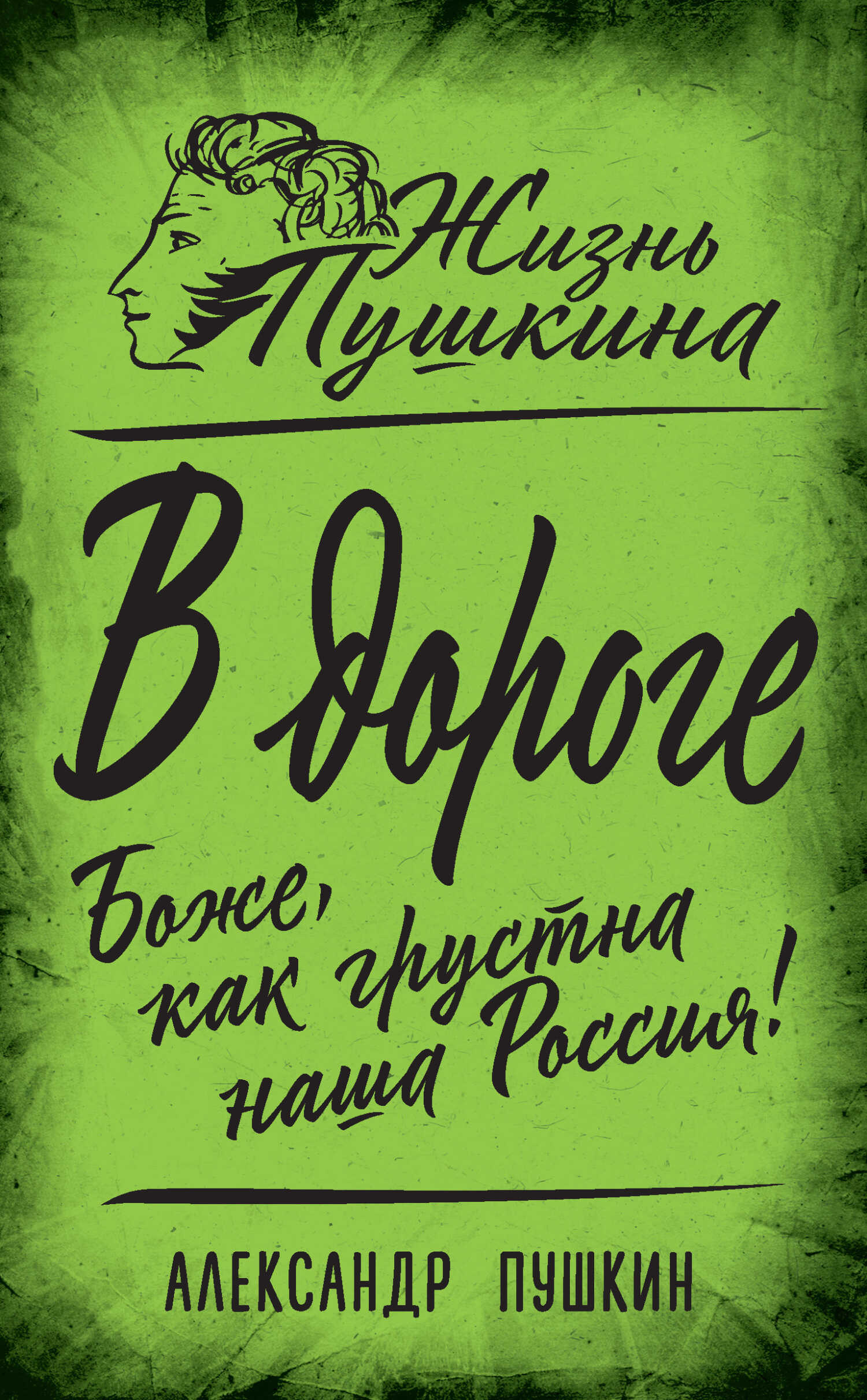Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Александр Сергеевич Пушкин был не только великим поэтом, но и опытным путешественником. Его не выпускали в Европу, зато по России поэт проехал 34 тысячи верст, изучив страну вдоль и поперек, познав душу народа. Какой она была, Россия пушкинского времени – пестрая, многонациональная империя? На этот вопрос точнее других может ответить только сам поэт и его современники.В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Сергеевич Пушкин»: