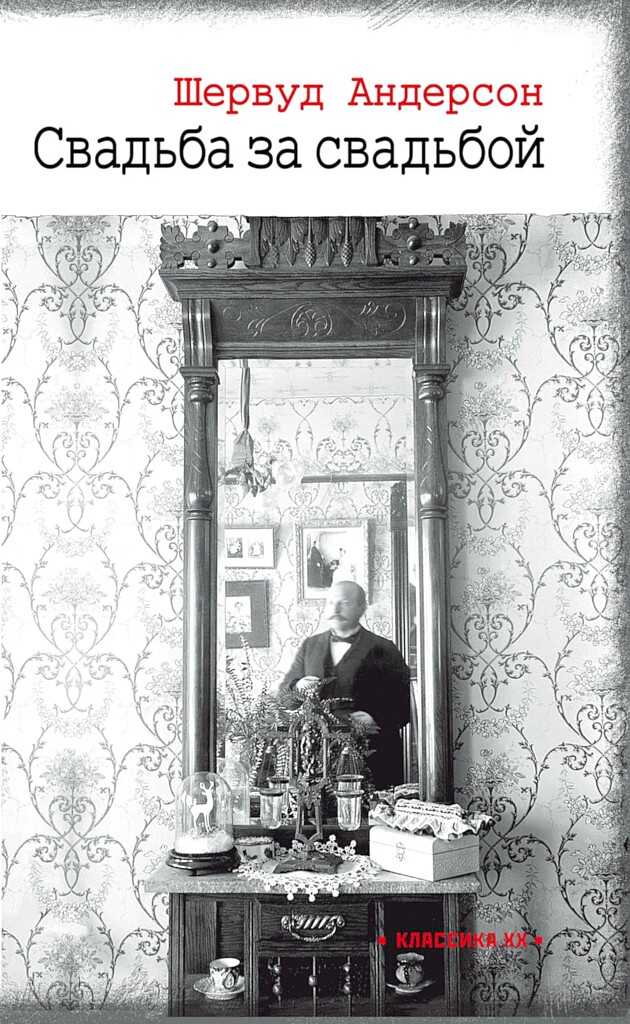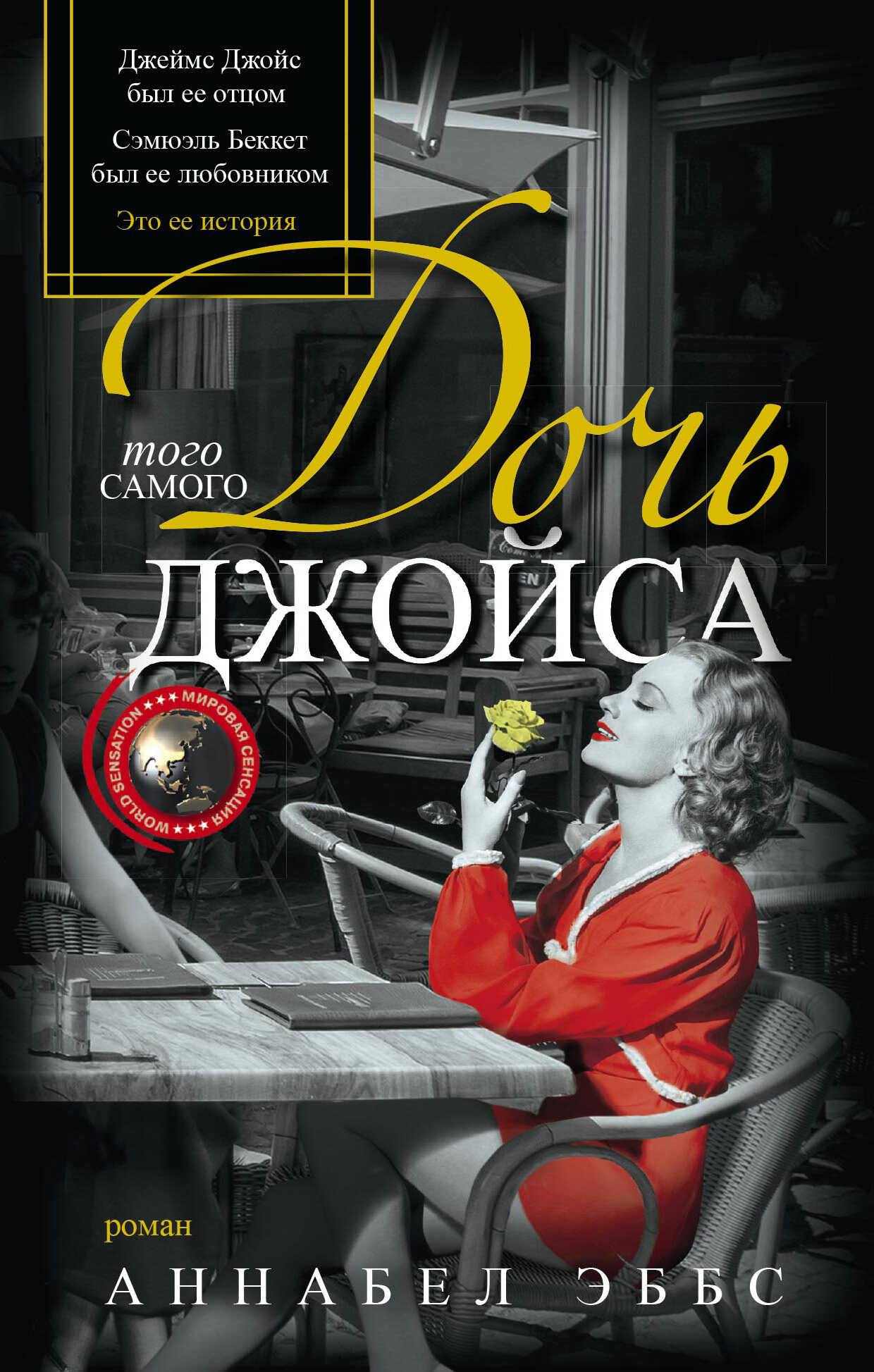Шрифт:
Закладка:
Снова запели его мысли, словно звон колоколов, несущийся над лугами. «Я в комнате, в доме, на улице, в городе, в штате Висконсин. В эту минуту большинство людей здесь, в городе, людей, среди которых я прожил всю свою жизнь, — они в постелях, они спят, но завтра утром, когда меня уже здесь не будет, город останется там же, где был, и двинется дальше дорогой своей жизни, как он делал это всегда с тех самых пор, как я был еще молодой балбес, женился на женщине и зажил своей нынешней жизнью». Таковы были эти ясные, видимые глазу вехи существования. Носишь одежду, ешь, барахтаешься среди таких же, как ты, женщин и мужчин. Есть фазы жизни, что проживаются под покровом ночи, а есть такие, которым под стать свет дня. Пожалуй, поутру три женщины, работающие в его конторе, да и управляющий тоже, будут заниматься своими обычными хлопотами. Пройдет время, и, когда не появятся ни он сам, ни Натали Шварц, они начнут переглядываться. Потом поползет шепоток. Это тот самый шепоток, который пронесется по всему городу, войдет во все дома, в магазины, в лавочки. Мужчины и женщины на улицах будут останавливаться посудачить, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Женщины, которые вместе с тем и жены, будут настроены скорее против него, а мужчины будут скорее завидовать, но мужчины говорить о нем станут, пожалуй, с куда большей озлобленностью, нежели женщины. И все это — только для того, чтобы сохранить в тайне мечту: каким-то образом положить конец смертной скуке своего существования.
По лицу Джона Уэбстера расползлась улыбка, и тогда он уселся на пол у ног дочери и дорассказал ей историю своей семейной жизни. В конце концов, он находил какое-то нехорошее, злобное удовольствие в том, чтобы уничтожить всю свою прежнюю жизнь. А что дочь? Природа — и это тоже правда — сделала нерушимой существующую между ними связь. Он может преподнести дочери любую новую мысль о жизни, какая ни придет ему в голову, и пусть она ее отвергнет — зато это станет для нее поводом самой принять решение. Люди не будут ее винить. «Бедная крошка, — скажут они. — Какой позор иметь такое убожество вместо отца!» А если посмотреть на это иначе? Вдруг, услышав все, что он должен ей сказать, она решится ускорить свой бег сквозь жизнь, распахнуть жизни объятия, как говорится, и тогда его нынешние поступки будут ей в помощь. Вот Натали — ее старая мамаша устраивала ей одни гадости, она напивалась в стельку, она кричала так, что всем соседям было слышно, и обзывала шлюхами своих трудолюбивых дочерей. Может быть, нелепо думать, будто от такой матери будет больше проку в будущем, нежели от матери безупречной, респектабельной, и все же в этом перевернутом с ног на голову мире, где все шиворот-навыворот, — почему бы нет?
Во всяком случае, в Натали есть какая-то тихая уверенность, и ему самому, даже в минуты сомнения, она несет удивительный покой и исцеление.
«Я люблю ее, я принимаю ее. Если распустившаяся мать Натали, оглашая улицы дикими воплями в отрешенном блеске опьянения, проторила для нее чистый путь, да здравствует и она тоже», — подумал он, улыбнувшись собственным мыслям.
Он сидел у ног дочери и тихо рассказывал, и пока он говорил, что-то и в ней самой утихло. Она слушала с непрестанно растущим интересом и время от времени поглядывала на него сверху. Он сидел к ней очень близко и иногда, слегка наклонившись, прижимался щекой к ее ноге. «Паскудник! Он небось и ее под себя подмял». Ей-то совершенно точно ничего такого в голову не приходило. Неуловимое ощущение надежности, уверенности передавалось ей от него. Он снова рассказывал о своей свадьбе.
На закате его юности, когда друг, его мать и сестра вошли к нему и к женщине, на которой ему предстояло жениться, его вдруг одолела та же напасть, что позже оставила незаживающий рубец на ее существе. Его одолел страх.
И что же вы приказали бы ему делать? Как следовало ему объяснить то, что он уже во второй раз ворвался в комнату к обнаженной женщине? Такое объяснить нельзя. Охваченный безысходной тоской, он выскочил из комнаты, пронесся мимо стоявших на пороге людей и побежал по коридору — на сей раз в комнату, которая ему предназначалась.
Он прикрыл и запер за собой дверь, а потом принялся одеваться, быстро, с лихорадочной поспешностью. Только полностью одевшись, он взял саквояж и вышел из комнаты. В коридоре тихо, лампа заняла свое место на скобе. Что произошло? Хозяйская дочь, конечно, сидит сейчас с этой женщиной и пытается ее успокоить. Друг его, наверное, пошел к себе и сейчас одевается и конечно же тоже думает думу. Так уж заведено отныне, что в этом доме не будет конца смущенным, взволнованным думам. Все было бы в порядке, не войди он в комнату во второй раз, но как ему теперь объяснить это второе вторжение, столь же ненамеренное, как первое? Он быстро спустился по ступенькам.
Внизу он столкнулся с матерью своего друга, женщиной лет пятидесяти. Она стояла в дверях столовой. Служанка накрывала ужин. Здесь блюли законы ведения дома. Было время ужина — и через несколько минут все люди в доме сядут ужинать. «Боже мой, — подумал он. — Неужто она может спуститься сейчас сюда и сесть за стол со мной и остальными? Могут ли привычки бытия так скоро восстановиться после потрясения столь глубокого?»
Он опустил саквояж на пол у своих ног и посмотрел на старшую женщину.
— Я не знаю… — заговорил он и так и замер, глядя на нее и невнятно что-то бормоча.
Она была смущена, как наверняка были смущены в ту минуту все в доме, но в ней было что-то такое, очень доброе, и от нее исходило сочувствие, даже когда она ничего не понимала. Она заговорила.
— Это была случайность, никому от нее никакого вреда, — начала она, но он не стал ждать, не стал слушать.
Подхватив саквояж, он бросился из дома.
Что же теперь делать? Он помчался через весь город к своему дому; тот стоял темный, безмолвный. Отец и мать уехали. Бабушка — мать его матери — жила в другом городе и