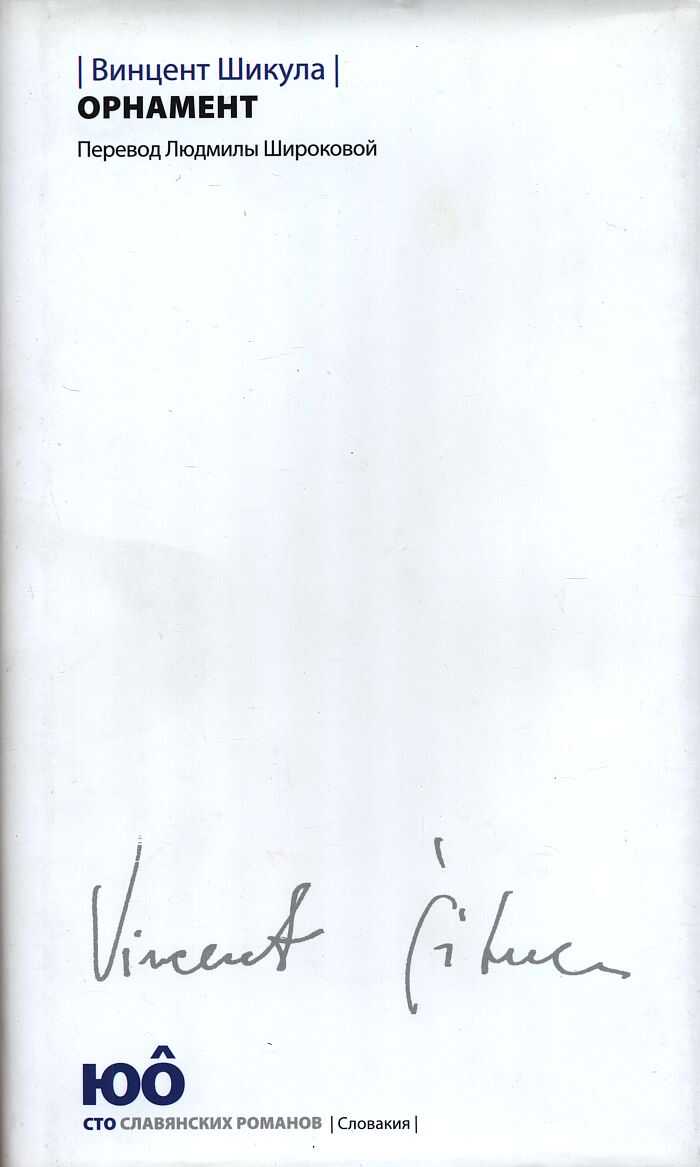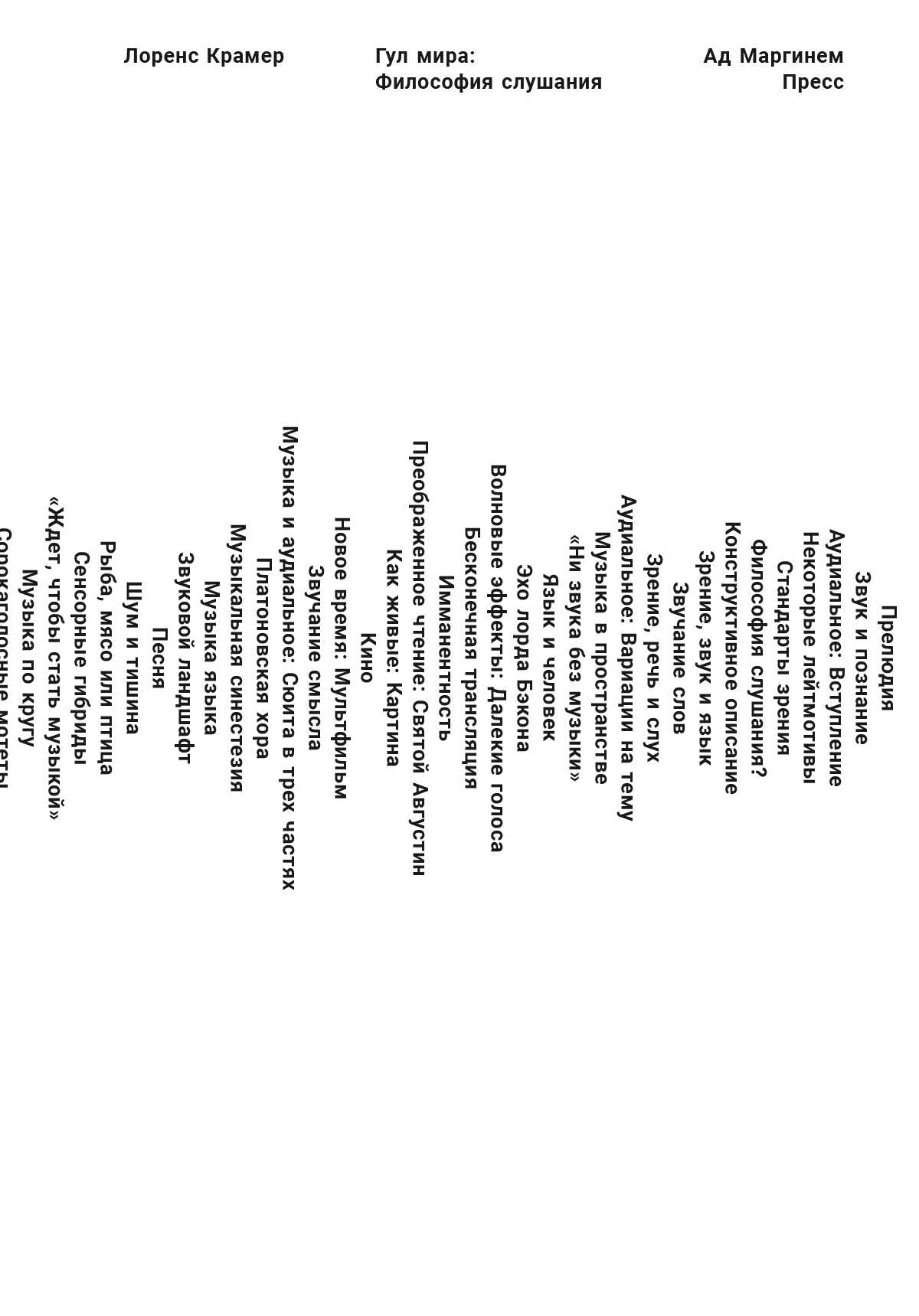Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В романе Винцента Шикулы (1936–2001) главный герой-рассказчик, Матей Гоз, зрелый, умудренный печальным опытом литератор, одинокий и неудовлетворенный, вспоминает свою студенческую молодость, пришедшуюся на время политических репрессий 1950-х гг. Мрачность политических реалий, с которыми сталкивается Матей, скрашивается дружбой со священником Йожо Патуцем, романтическими увлечениями и духовными поисками.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Винцент Шикула»: