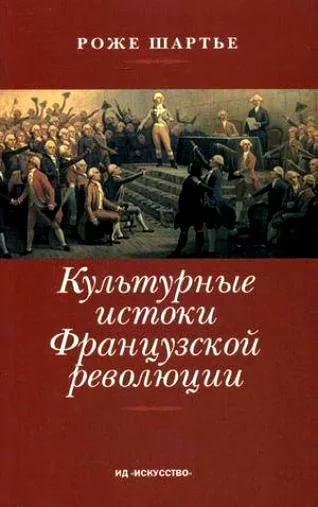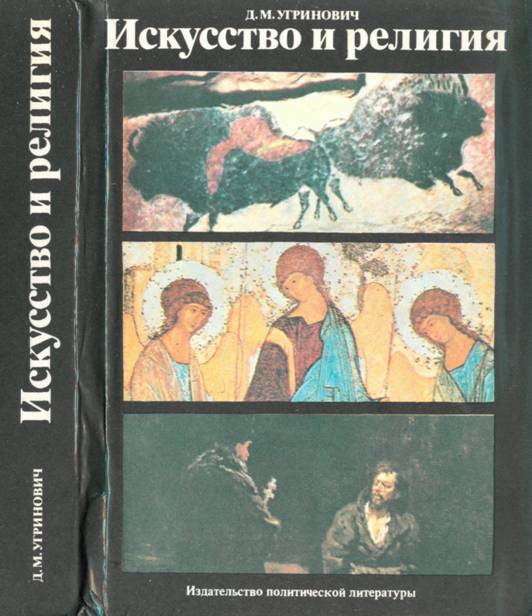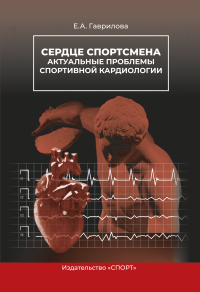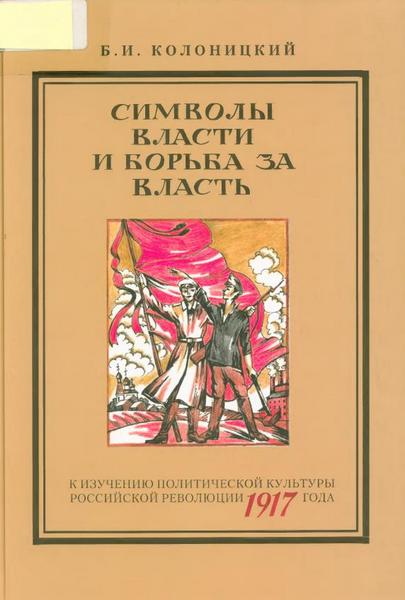Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роже Шартье (р. 1945) — один из виднейших представителей современной французской исторической науки, руководитель исследований в Высшей школе социальных наук в Париже. Его обобщающие работы вносят ценный вклад в изучение истории XVIII века, обозначая новые пути развития знания о прошлом. В настоящей книге прослеживается формирование общественного сознания, сделавшего возможным Великую французскую революцию 1789 года.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Роже Шартье»: