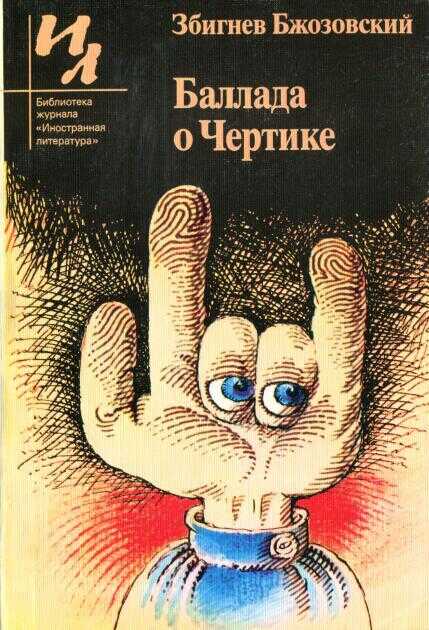Шрифт:
Закладка:
— Назад! — кричали милиционеры.
Пришлось немного отступить. Народу все прибывало, тени голубели и размазывались. Смеркалось. Кто-то кричал:
— Господи-и-и!
— Эй, пошли туда! — сказал старший Карчмарек.
— Господи-и-и! У-у!..
Человек, который кричал, корчился на земле возле изгороди. Одежда обгорела, лицо было похоже на кусок сырого мяса. Тело на спине ярко-розовое. Его придерживали.
— Не могу-у-у… у-у…
Подкатил, подпрыгивая на мерзлой земле, «виллис». Обгоревшего втащили на заднее сиденье. Он метался как рыба. «Виллис» развернулся и уехал.
Мужчины, стоявшие с нами рядом, набивали табаком гильзы в медных машинках. Качали головами:
— Здорово его опалило.
— Может, оклемается…
— То ли да, то ли нет.
Подбежали колядчики.
— Кто, кто? — стали спрашивать. — Ой ты! Неужели он?
— Вы что, его знаете?
— Конечно знаем.
Обожженный раньше ходил с колядчиками. Собирался и сейчас да раздумал, решил, ему уже не пристало. А колядчикам этим дал переписать «роли».
В самолете рвались боеприпасы, милиционеры оттеснили нас еще дальше. Мы стали искать место, откуда лучше видно. Люди отошли к пригоркам, разбились на кучки. Переговаривались:
— И зачем полез?
— Может, чем поживиться хотел, пока другие не подоспели?
— Кто смел, тот и съел.
— Не, он не такой.
— Руки, может, зачесались?
— Навряд ли, он бы подождал.
— А вдруг спасти хотел?
— А сколько они людей пожгли?!
— Может, он, как увидел, захотел.
Столб дыма выпрямился и порозовел. Мы теперь смотрели издалека. Колядчики стояли близко, они были намного старше нас, лет по пятнадцати, по шестнадцати, наверное. Говорили про самолет, какой он был, и про этого обожженного. Вроде все знали, как было дело, но каждый немножко по-своему. Кто-то сказал:
— Знаю я его!
— Да ну, он бы никогда…
И тоже каждую минуту спрашивали: почему, зачем?
Самолет уже догорал, на небе поблескивали звезды, скрипел снег. Народ расходился. Мы шли за колядчиками. Проходили мимо больницы, но криков обожженного слышно не было. В одном доме горели на елке свечи. Где-то пели припоздавшие колядки.
Колядчики вошли в сени. Старший Карчмарек прошмыгнул за ними, мы остались под окном. Видно было плохо, но история про пастухов и короля, который убивал детей, нам была хорошо известна. Мы ждали, когда выступят Смерть и Дьявол.
Вернулся Карчмарек.
— Выгнали?
— Не-а! Ты что?!
Возможно, все-таки его выгнали. Карчмарек сказал, что играют слабо и путают роли.
Кино
В других местах во время оккупации патриоты в кино не ходили. У нас не ходил никто. Потому что кинотеатр сгорел еще в тридцать девятом.
Когда привезли первый после войны и в нашей жизни фильм, Весек вспомнил, что Белинская задиралась и ябедничала. Она как раз гуляла одна и делала вид, что не обращает внимания.
— Она еще ничего не знает, — пожал плечами Весек.
— А вот и знаю, — сказала Белинская.
— Все равно тебе места не будет.
— Нет, будет.
— Пошли, — кивнул мне Весек, — пусть она остается. Мы для себя займем.
Шли не спеша, улочки были пустоватые. Забраться внутрь сквозь широкие оконные проемы без рам ничего не стоило. У стен цвели крапива и чистотел. Щебень колол пятки. Кое-где были следы от шальных пуль. Поджидая Белинскую, мы разглядывали дыры в штукатурке.
— Смотри, от станкового пулемета.
— Дурак, это от обыкновенного автомата!
— Много ты понимаешь!
Кое-что, однако, мы понимали. И пяти минут не прошло, как явилась Белинская. Мы устроились на груде штукатурки и кирпичей лицом к экрану, намалеванному на стене. Экран был весь в разводах сажи, а над ним плыли облака. Тени стали длинными.
Погодя Весек приказал Белинской:
— Мы пойдем, а ты, если кто вздумает сесть, говори, что занято.
— Чего захочу, то и скажу, — ответила она.
Мы вылезли наружу через пролом в заржавленной железной ограде. И побежали в пожарное депо, где на самом деле должны были показывать фильм. У входа толпились взрослые и дети. Были Пырей и все Карчмареки.
— Ну, вот и войне конец. А когда следующая, не говорили? — спросил Гжибовский у лавочника, который уже обзавелся огромным приемником «Телефункен».
Лавочник ловко маневрировал в толпе. Через минуту высунул голову:
— Знаете, я не слушал. Не получается чего-то. Наверное, двадцать восьмая лампа внизу барахлит.
— Эй, поживее! — кричали сзади.
Нас внесло внутрь. Стульев в депо не было. Ветеринар, аптекарь и начальник милиции сидели на пожарной телеге. Киноаппарат стоял на столе. Он ни на что не был похож. Ну, может, чуть-чуть на пушку. Маленькую пушку с толстым стволом.
У человека, который его обслуживал, вид был такой, будто он ни при чем. Грыз то ли щепочку, то ли спичку и поплевывал.
— Начинай, начинай, — кричали со всех сторон.
Вперед протиснулся директор школы.
— Граждане, — начал он.
Стало немного потише, но вскоре опять раздались голоса:
— Начинай!
— …мы одолели гидру, — подытожил наконец директор и протянул руку. Перед стеклянным глазом аппарата висела лента.
— Ножницы.
— Ножницы… ножницы, — понеслось по депо.
Ножниц не нашлось. В конце концов директор перерезал ленту перочинным ножиком.
Еще какое-то время человек у аппарата гремел большими жестяными кругами. Свет погас, потом на экране из простынь вдруг заплясали цифры и знаки, а потом — взрывы. Фильм был немой, и взрывы беззвучные. Появились немецкие солдаты, а под конец — флаги трех цветов: белого, серого и черного. Кино было про освобождение Франции.
Обратно возвращались с ребятами. Мостовая уже остыла. Фонари не горели. Только за окнами желтовато светились шведские электролампочки.
Навстречу попалась мать Белинской:
— Мою не видели?
— Н-нет… не видели.
Когда она пошла дальше, мы с Весеком свернули в боковую улочку. И пустились бегом.
Белинская была еще там. Она заснула. В развалинах кинотеатра пахло ромашками и жасмином. Тени от стен были черные, а между ними все зеленое и голубоватое.
У ног Белинской вертелась мышка в штанах на помочах. С большими ушами и смешной мордочкой. Эту мышку мы знали по какой-то старой картинке.
Доброе солнце
На лугу еще остались незасыпанные воронки от снарядов. Коза Духа спустилась по откосу, сжевала затесавшийся в воронку сорняк. Мы сидели на лугу. Божья коровка пригнула к земле травинку и улетела на небо принести нам хлеба.
Кто-то подходит по меже. Вроде Карчмареки, но пока еще не видно. Волосы у Карчмареков светлые, в пшенице их не разглядишь. Весек лежит на боку, грызет колосок.
— Ну и жара!
— А я люблю, когда жарко.
Если прищурить глаза, солнце выкидывает во все стороны дрожащие змейки. Если совсем закрыть и повернуть к солнцу лицо, видишь только красное.
— Глядите, чего у нас есть, — говорят Карчмареки.
— Что это?
— Штука такая, еврейская.
Странная штука. Черная, похожая на оторванный