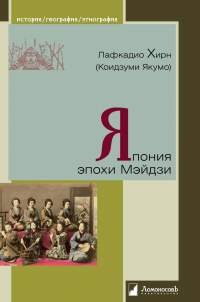Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Англо-ирландско-американский востоковед и писатель Лафкадио Хирн прожил удивительную жизнь. Родился в Греции, вырос в Ирландии, начал карьеру в США, где в эпоху узаконенной расовой сегрегации взял в жены чернокожую женщину, жил на Мартинике, изучая обряды вуду, а затем уехал в Японию и остался там навсегда, стал профессором Токийского университета, принял японское имя Коидзуми Якумо и женился второй раз на дочери самурая. Приезд Хирна в Японию пришелся на период Мэйдзи, названный так по девизу правления императора Муцухито (1868–1912 годы). Это было время, когда Япония, отказавшись от самоизоляции, начала превращаться в мировую державу. Преподавая японцам английский, Хирн и сам учился: постигал тонкости языка, впитывал дух Японии. Здесь началась его литературная жизнь, которая принесла ему мировую славу. В настоящую книгу включены этнокультурные тексты, которые большей частью впервые публикуются на русском языке, — о стиле жизни, домашнем обиходе, обычаях, нравах и верованиях японцев.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лафкадио Хирн»: