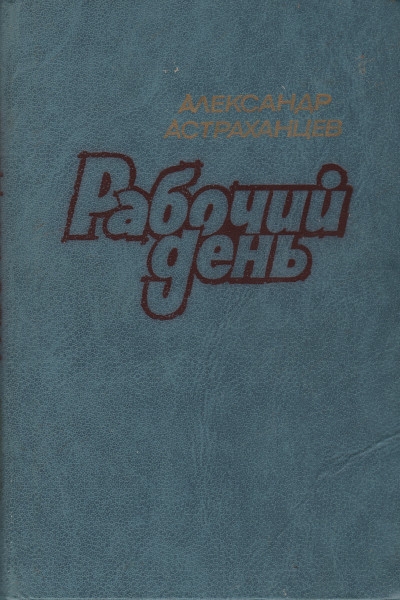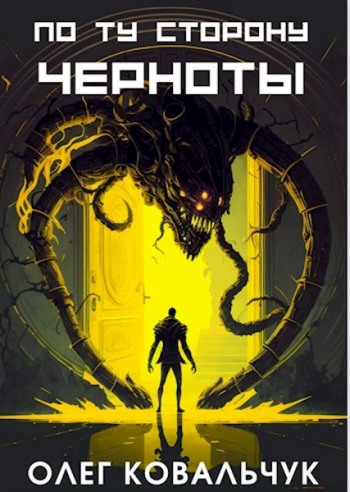Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Творчество Александра Астраханцева посвящено людям труда — строителям, инженерам, шоферам. Актуальная тематика, яркие характеры, изображенные в экстремальных ситуациях, без сомнения, привлекут внимание читателя. Красноярский прозаик не ограничивается сугубо производственными проблемами, в сборник вошли произведения, посвященные вопросам воспитания личности, взаимоотношениям людей разных поколений.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Александр Иванович Астраханцев»: