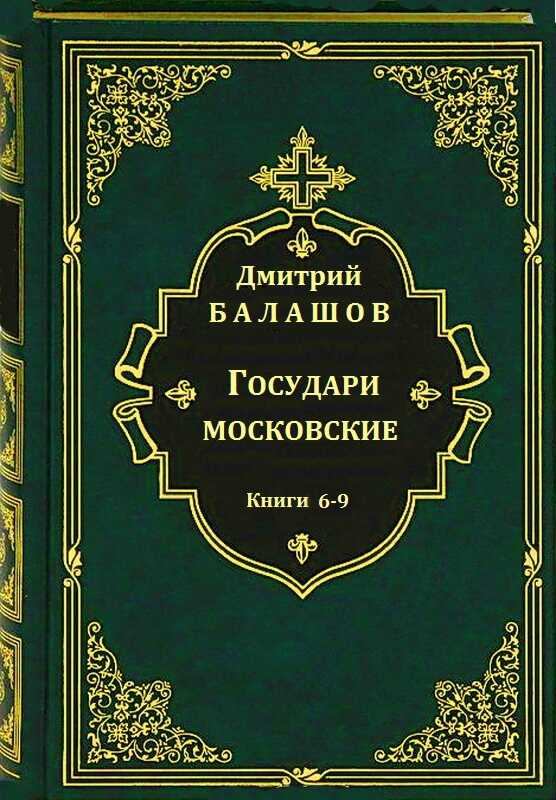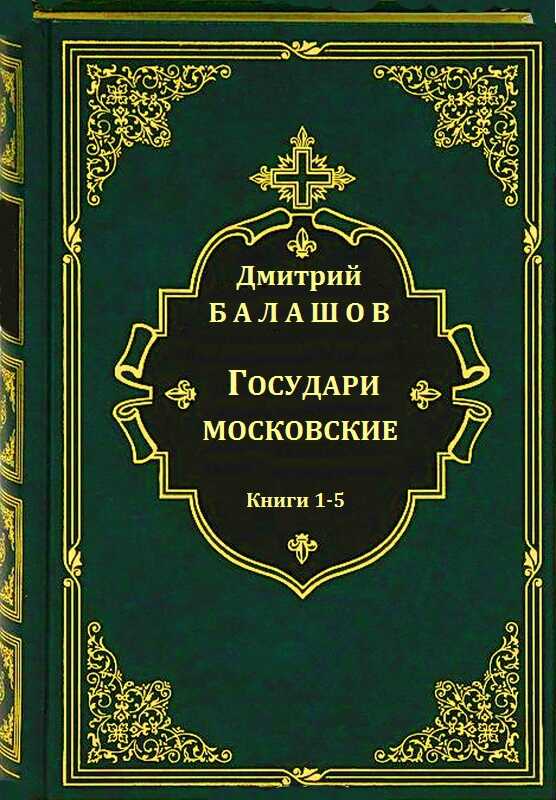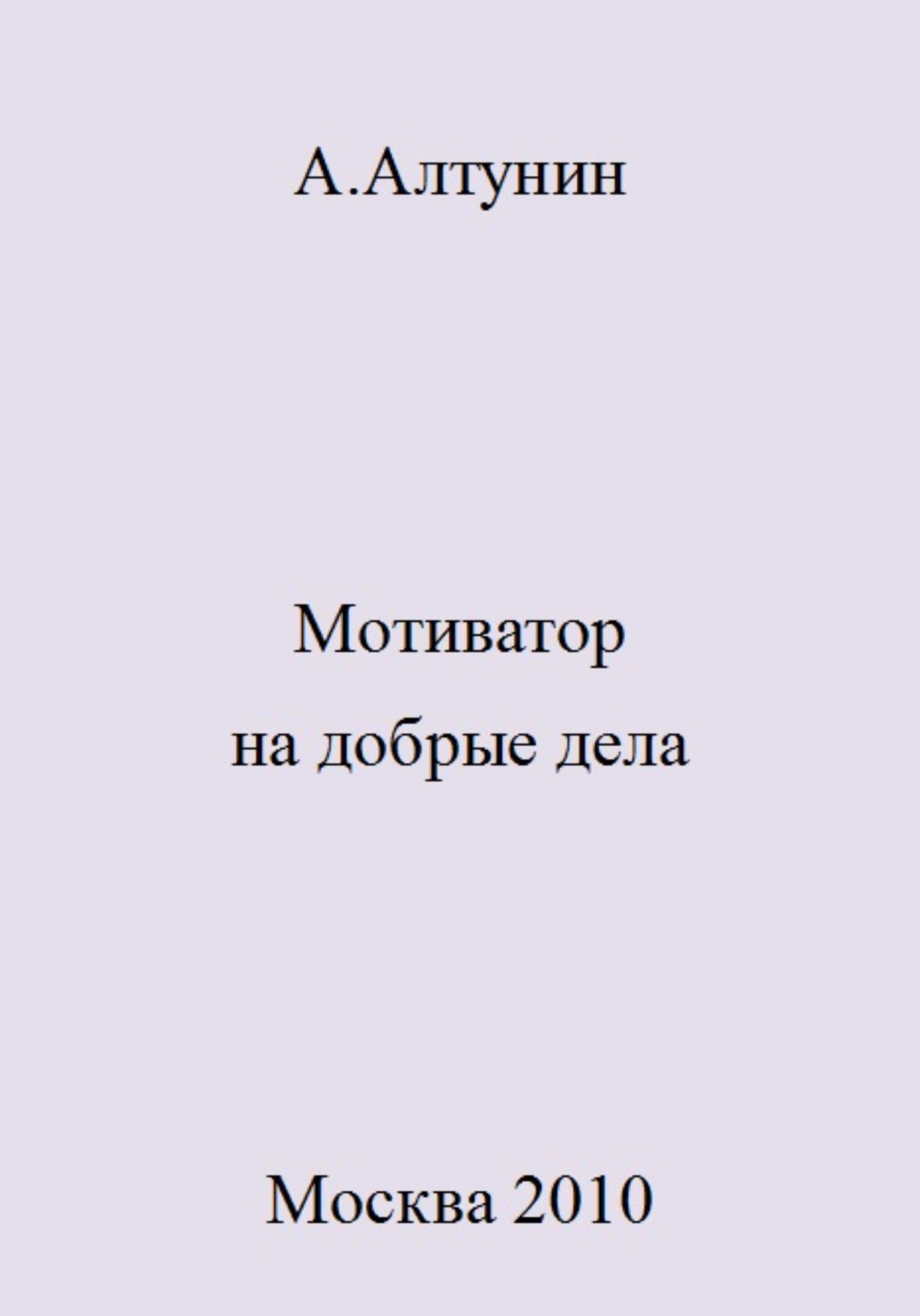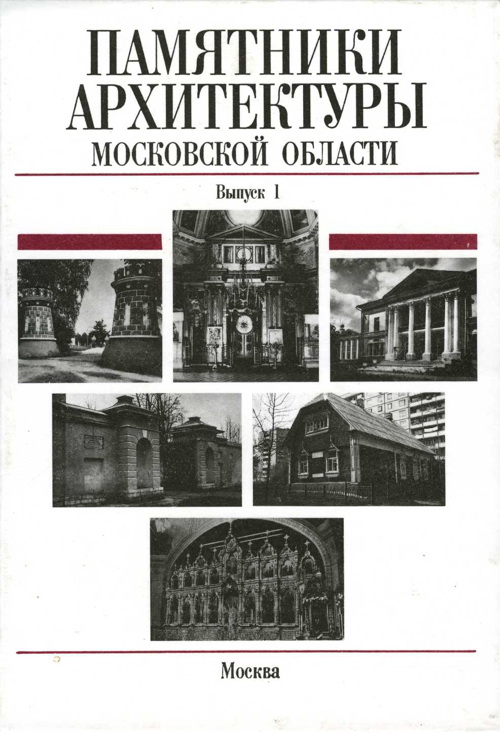Шрифт:
Закладка:
"Младший сын": Роман охватывает сорокалетний период русской истории второй половины XIII в. (1263–1304 гг.) и повествует о борьбе за власть сыновей Александра Невского - Дмитрия и Андрея, об отношениях Руси с Ордой, о создании младшим сыном Невского Даниилом Московского княжества как центра последующего объединения страны. Роман «Великий стол» охватывает первую четверть XIV века (1304–1327гг.), время трагическое и полное противоречий, когда в борьбе Твери и Москвы решалось, какой из этих центров станет объединителем Владимирской (позже - Московской Руси). "Бремя власти": Роман посвящен времени княжения Ивана Калиты - одному из важнейших периодов в истории создания Московского государства. Это третья книга из серии «Государи московские», ей предшествовали романы «Младший сын» и «Великий стол». «Симеон Гордый» - четвертый роман из серии «Государи московские» - является непосредственным продолжением «Бремени власти». Автор описывает судьбу сына Ивана Калиты, сумевшего в трудных условиях своего правления (1341–1353) закрепить государственные приобретения отца, предотвратить агрессию княжества Литовского и тем самым упрочить положение Московского княжества как центра Владимирской Руси. В книге «Похвала Сергию» писатель продолжает главную тему своего творчества - рассказ о создании Московской Руси. Героем этого романа является ростовчанин Варфоломей Кириллович, в монашестве Сергий Радонежский. Волею судеб он стал центром того мощного духовного движения, которое привело Владимирскую Русь на Куликово поле и создало на развалинах Киевской Руси новое государство - Русь Московскую.
Содержание: 1. Младший сын 2. Великий стол 3. Бремя власти 4. Симеон Гордый 5. Похвала Сергию