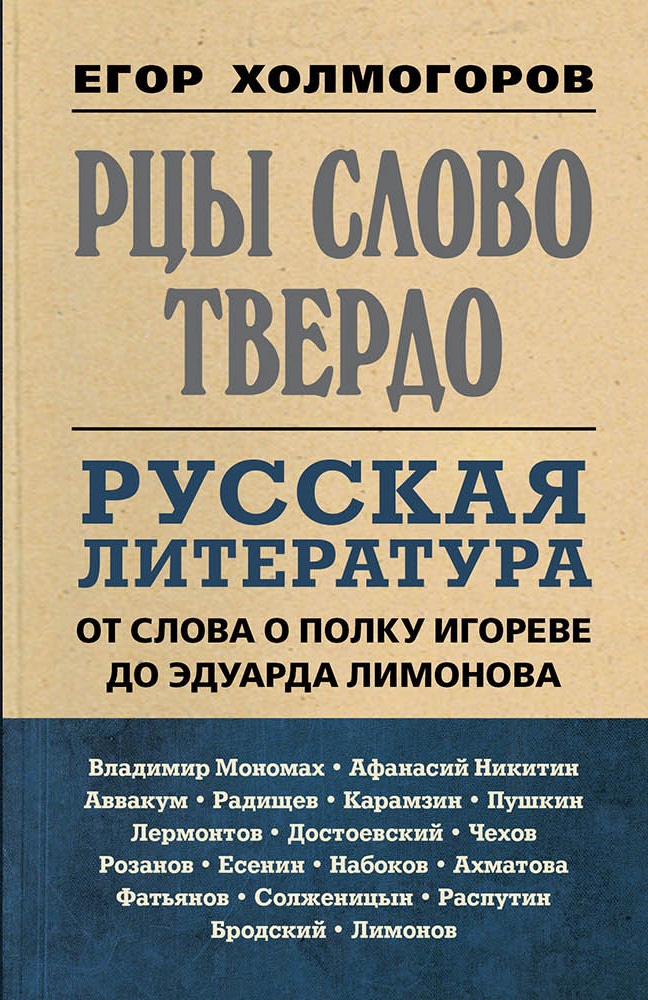Шрифт:
Закладка:
Воспоминания Мириэл Бьюкенен (1886—1959) – дочери последнего британского посла в Российской империи Джорджа Бьюкенена, известного русским читателям своими мемуарами, – посвящены событиям восьми лет, предшествовавшим революции. В первой части книги автор описывает прибытие в Петербург осенью 1910 года, знакомство с императорской семьей, представителями высшего света и членами дипломатического корпуса. Мириэл, выполнявшая по поручению отца «светские обязанности» дипломатической службы, рассказывает не только о жизни при дворе, балах и приемах, но и об особенностях «русской жизни»: праздниках, традициях, быте простого народа, положении женщин, а также о политической ситуации в стране накануне Первой мировой войны. Во второй части книги говорится о драматических событиях, ускоривших падение великой державы: убийстве Распутина, череде восстаний и переворотов, расстреле царской семьи, после которых семья посла была вынуждена навсегда покинуть страну. Воспоминания Мириэл Бьюкенен в России публикуются впервые.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.