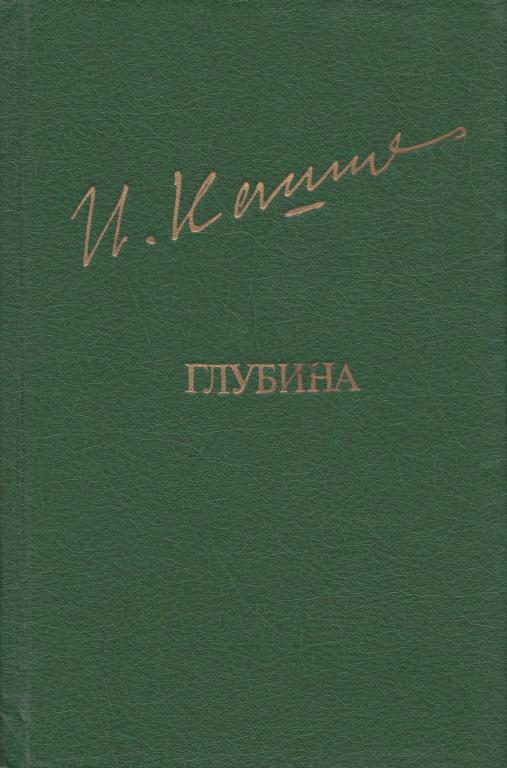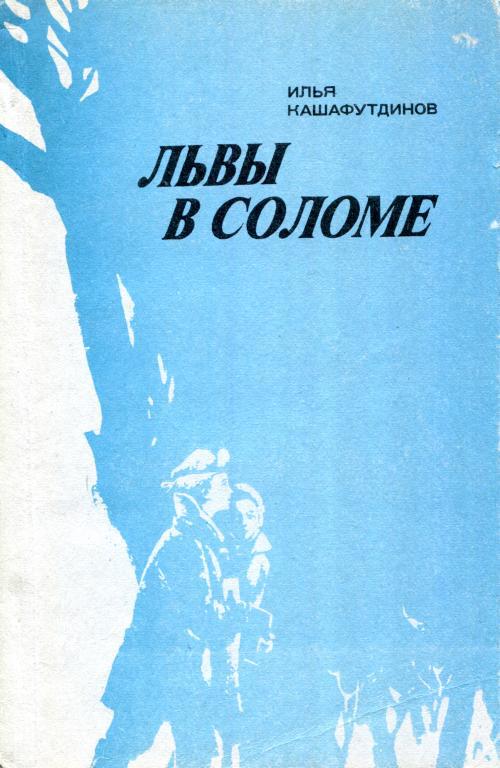Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В новую книгу обнинского писателя вошли произведения, написанные им в разные годы. Рассказы и повесть, составившие сборник, открывают читателю сложный душевный мир людей увлеченных, сполна отдающихся любимому делу. Для героев Кашафутдинова характерна бескомпромиссность в борьбе со злом, четкое определение своей идейной позиции, верность в любви и дружбе.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ильгиз Бариевич Кашафутдинов»: