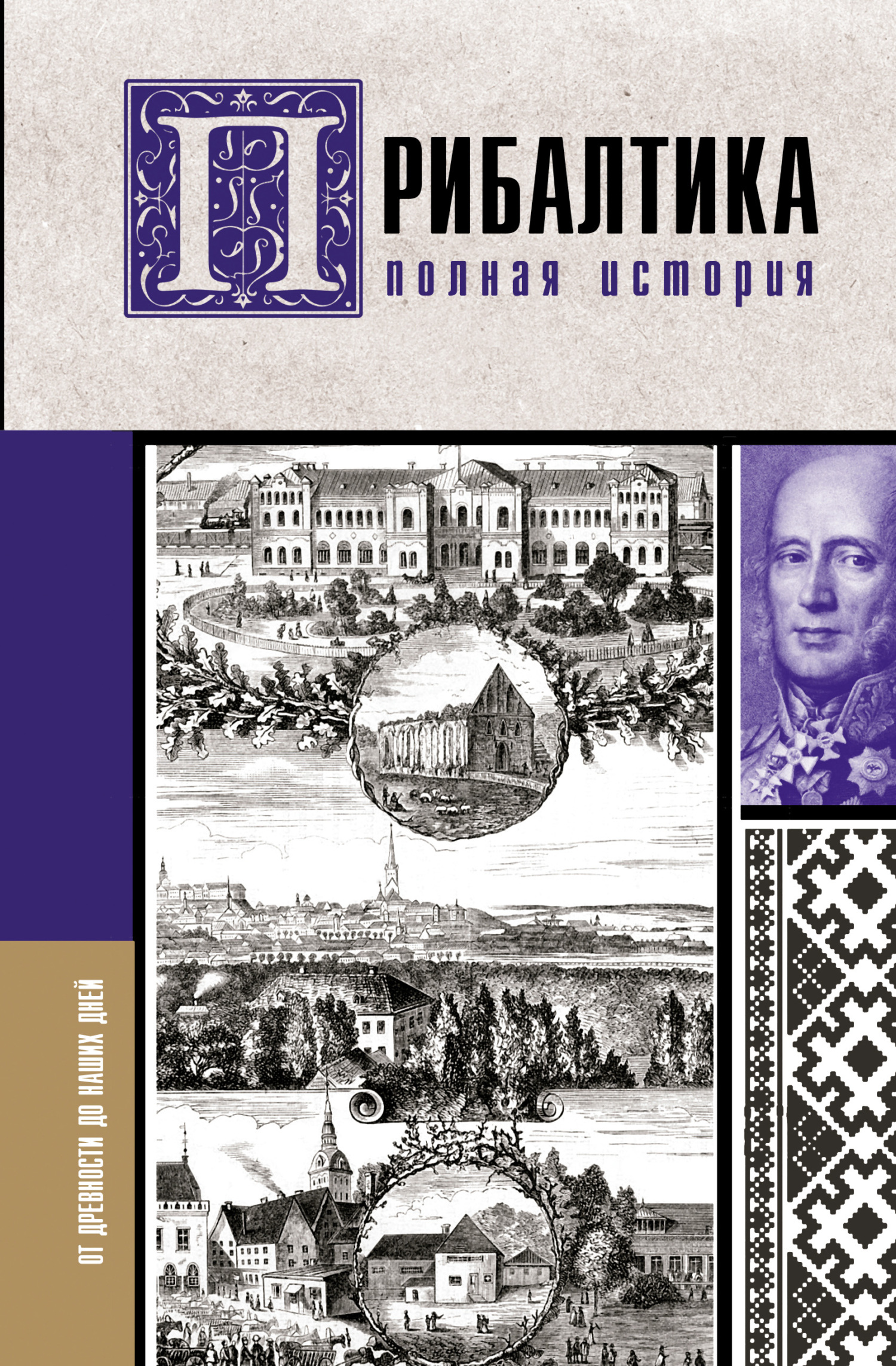Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Настоящая книга посвящена исследованию причин особенностей внешней и внутренней политики Советского Союза в межвоенный период. Какие могущественные силы стояли за пактом Молотова-Риббентропа? Каким естественным и безжалостным законам подчинялись коллективизация и индустриализация? Что послужило объективной причиной террора? На эти и многие другие ключевые вопросы эпохи дает ответ эта книга. Ее особенность заключается в том, что она, как и вся серия «Политэкономия истории», исследует исторические процессы не как набор фактов, а как результат действия объективных сил и законов, двигающих развитием человеческого общества. Настоящее издание является вторым полностью переработанным изданием книги «Союз Сталина».
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Васильевич Галин»: