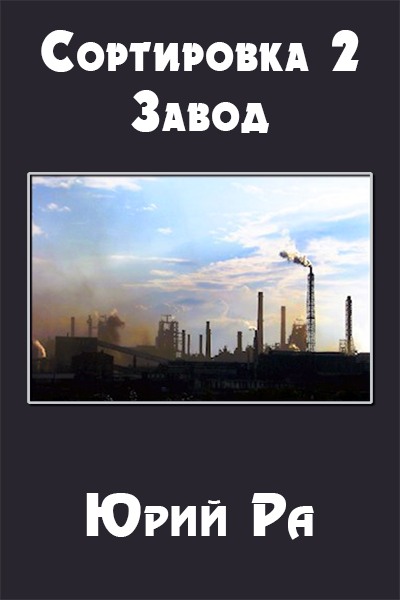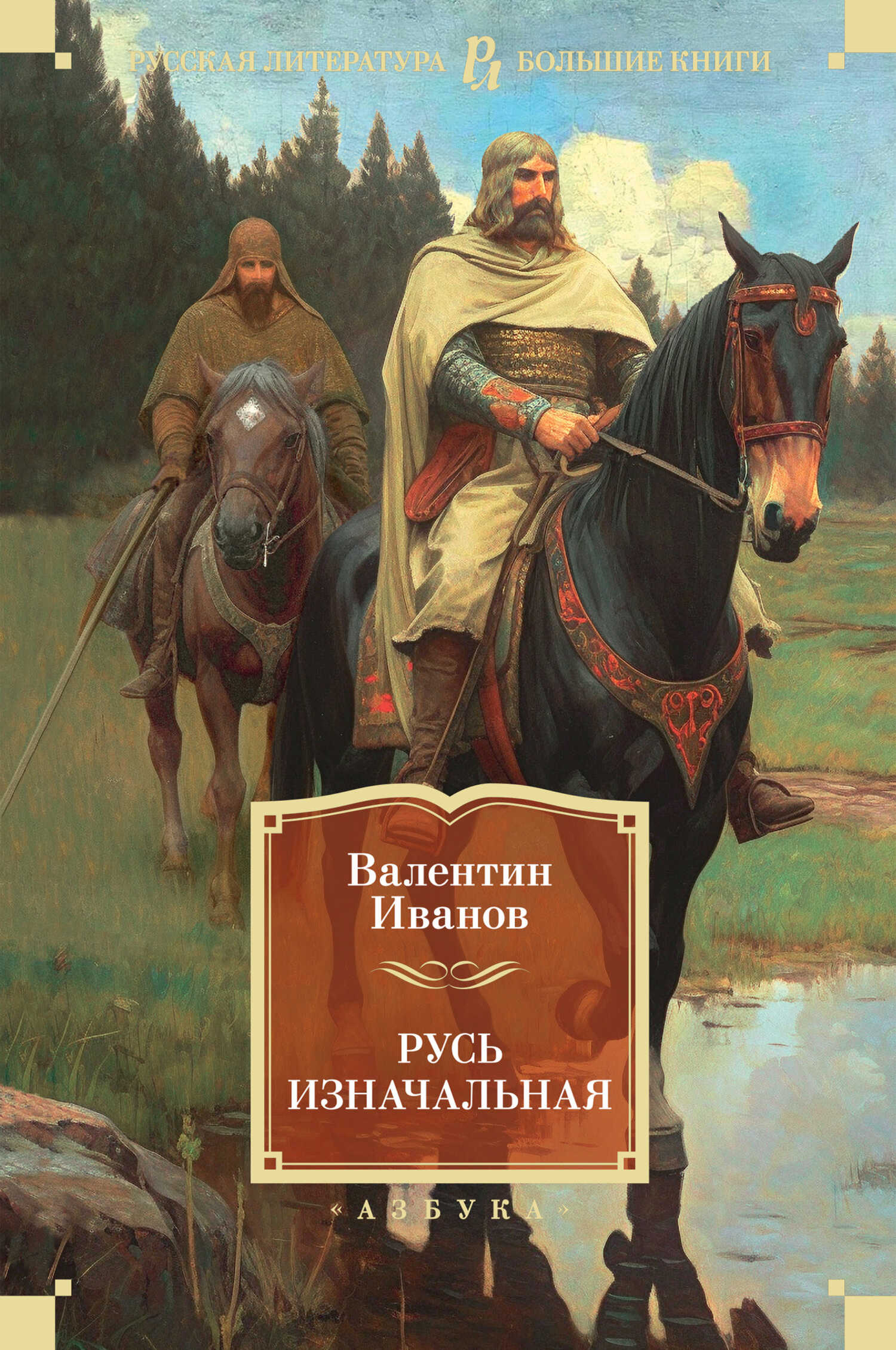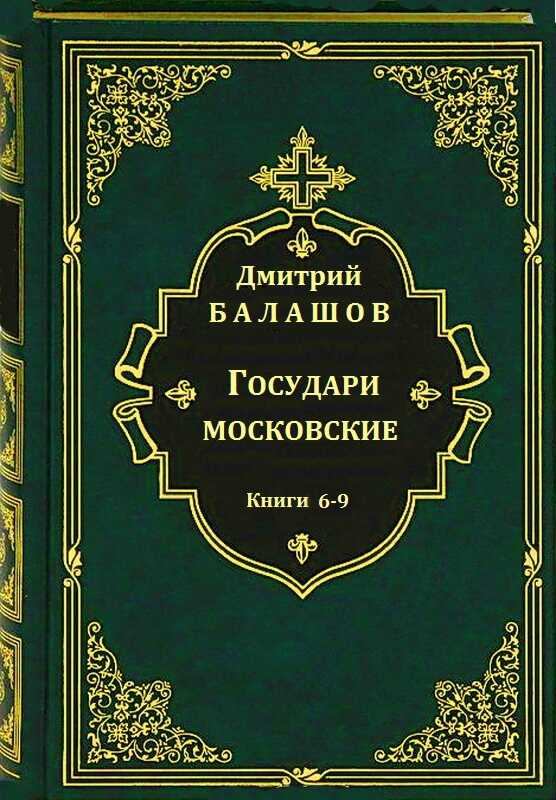Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
В книгу входят две повести: «Один год и вся жизнь» — о выдающемся русском физике П. Н. Лебедеве (1866—1912), о нарастании революционных событий в России в начале XX века и «Сила тяжести» — о жизни и революционной деятельности известного ученого-астронома П. К. Штернберга (1865—1920), о борьбе московских большевиков во время Декабрьского восстания 1905 года и октябрьских боях в 1917 году.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Лев Эммануилович Разгон»: