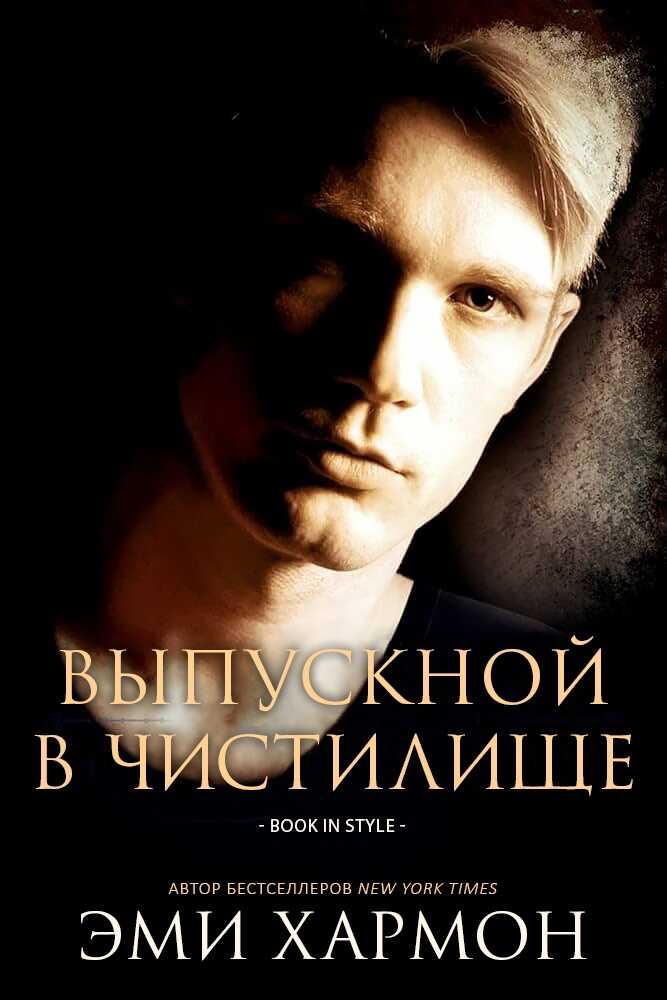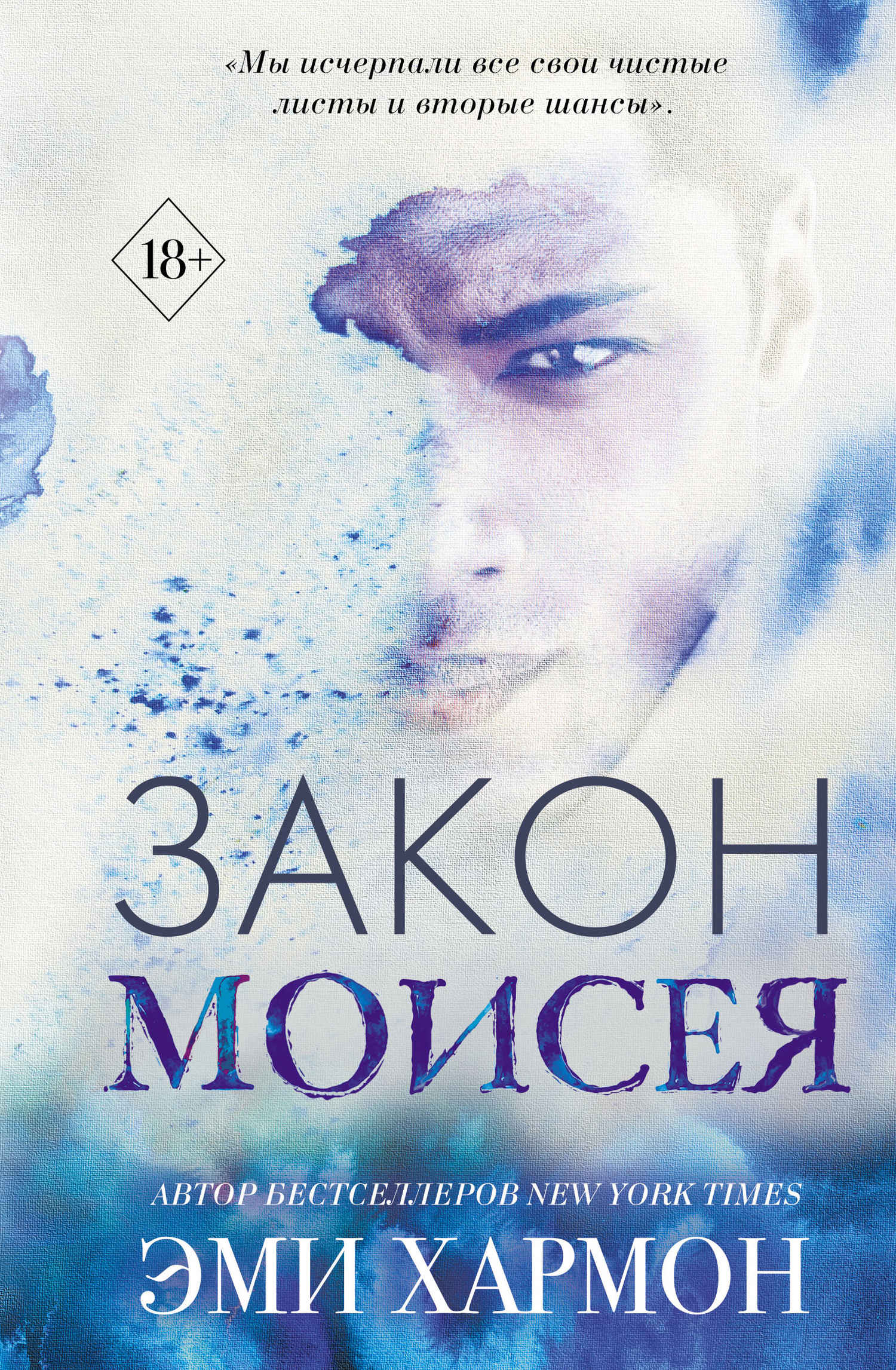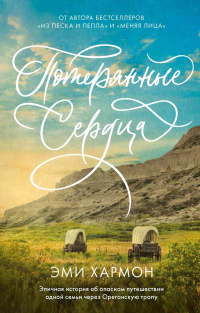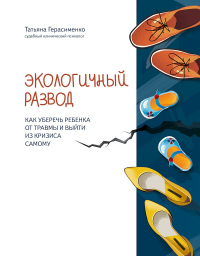Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Орегонская тропа, 1853. Наоми Мэй едва ли исполнилось двадцать лет, когда она овдовела. Это и стало началом настоящих испытаний для девушки и ее близких. В поисках лучшей жизни большое семейство Мэй отправляется в опасное путешествие на Запад.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Эми Хармон»: