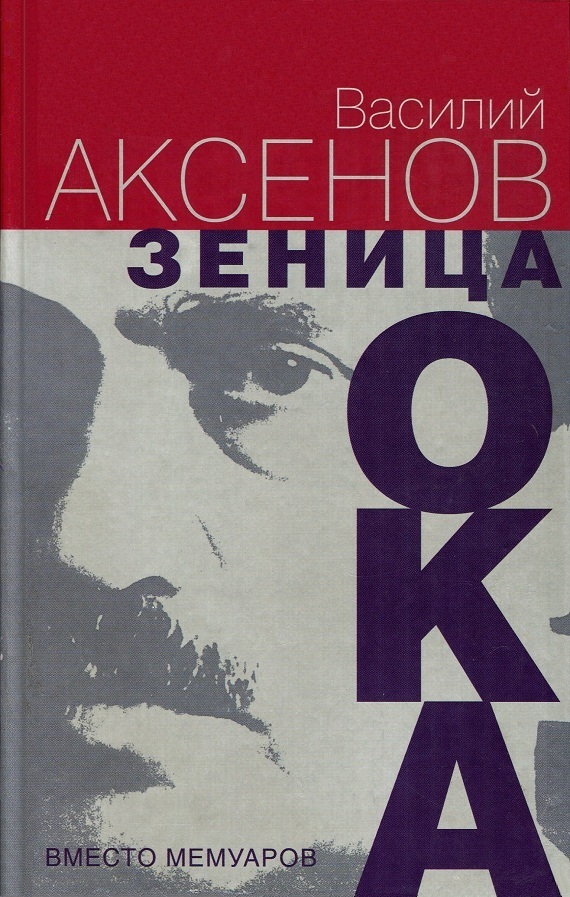Шрифт:
Закладка:
Звукозаписи, как и другие способы документации «живого» исполнения, часто противопоставляются самими событиям как лишенные аутентичности артефакты. Книга Валерия Золотухина стремится опровергнуть эту логику; исследуя традиции и практики поэтической декламации в России начала XX века, автор предлагает новаторский взгляд на историю литературы и перформативных искусств сквозь призму медиатеории. Опираясь на многолетнее изучение аудиальных архивов и уделяя внимание обзору новаторских исследований звучащей литературы, Золотухин анализирует пограничные перформативные жанры (например: агитационный самодеятельный театр и коллективная декламация), а также эволюции техник слушания в один из наиболее интенсивных периодов истории западноевропейской культуры. В результате перед нами оригинальная работа на стыке филологии, исследований перформанса и медиа, которая предлагает не прочесть, а услышать историю русской литературы начала ХX века. Еще одна задача, которую ставит перед собой автор, – пролить свет на механизмы культурной памяти. Ведь помехи и треск фонографического валика со временем стали условием для того, чтобы мы поверили в подлинность голосов из прошлого.