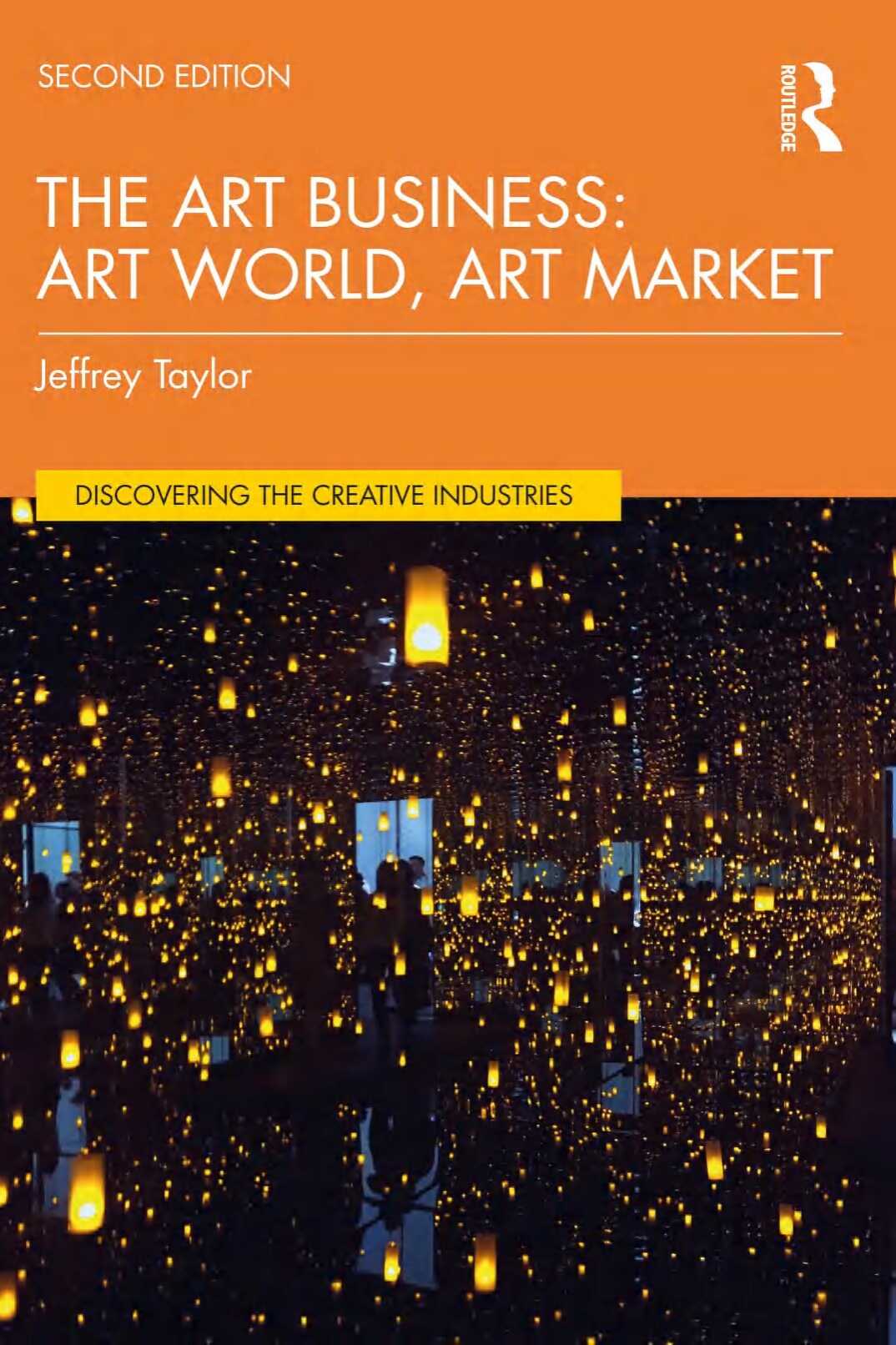Шрифт:
Закладка:
Новый роман автора Ромы Декабрева, вошедший в список финалистов премии «Лицей». Это многослойное произведение, раскрывающее внутренние миры мучимых самоанализом личностей, ищущих истинный смысл своего существования. Автор рисует мельчайшие оттенки человеческих эмоций и переживаний, соединяя лиричность с экзистенциальной реальностью. Жизни героев тесно переплетаются, формируя замысловатую мозаику из реальных событий и символических, граничащих с сюрреализмом эпизодов. Красота и страдание, мечты и реальность всегда идут рука об руку, создавая сложную, но увлекательную ткань человеческого существования. Беккетовские диалоги, ускользающая реальность, мерцающее повествование – фирменный коктейль прозы Декабрева, и в новой книге он остался верен себе.На одном лишь опыте своих творческо-терапевтических экспериментов Надя усвоила: безусловная безопасность – это блажь, пыль в глаза, чтобы сбить жертву с толку, внушить ей утопическую мечту, вместо того чтобы эволюционным путём – пропитанная страхом – она обрела шипы, обострила интуицию, ускорила реакцию. Опасность, риск – это факты жизни, спокойствие же достижимо разве что в могиле или в плену под ежечасным надзором.Для когоДля любителей интеллектуальной модернистской прозы, поклонников текстов-иллюзий, наполненных неочевидными метафорами.Желания – потому что нет желаний. Самое точное движение – которое вовсе не совершается. Больше всех от жизни берёт тот, кто не берёт ничего. Есть ведь люди, не приспособленные ни к существованию в обществе, ни к суете, ни к действию в принципе. Они-то, может быть, суть самые честные, ибо стоят в тени жизни и не относят себя к большему, скромно довольствуясь меньшим, таким образом скорее приближают себя к ночной статике, чем те, что прут к единению напролом.