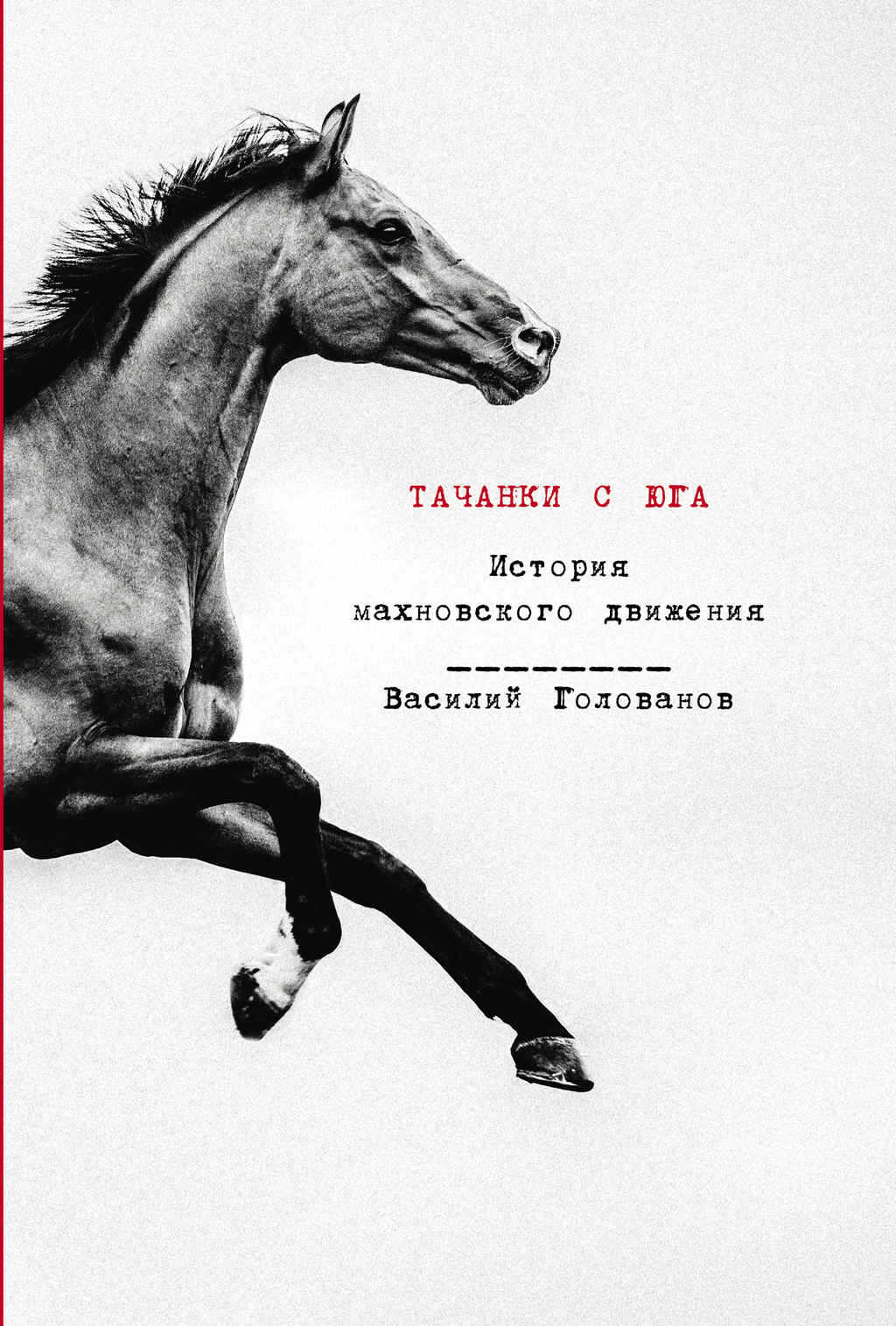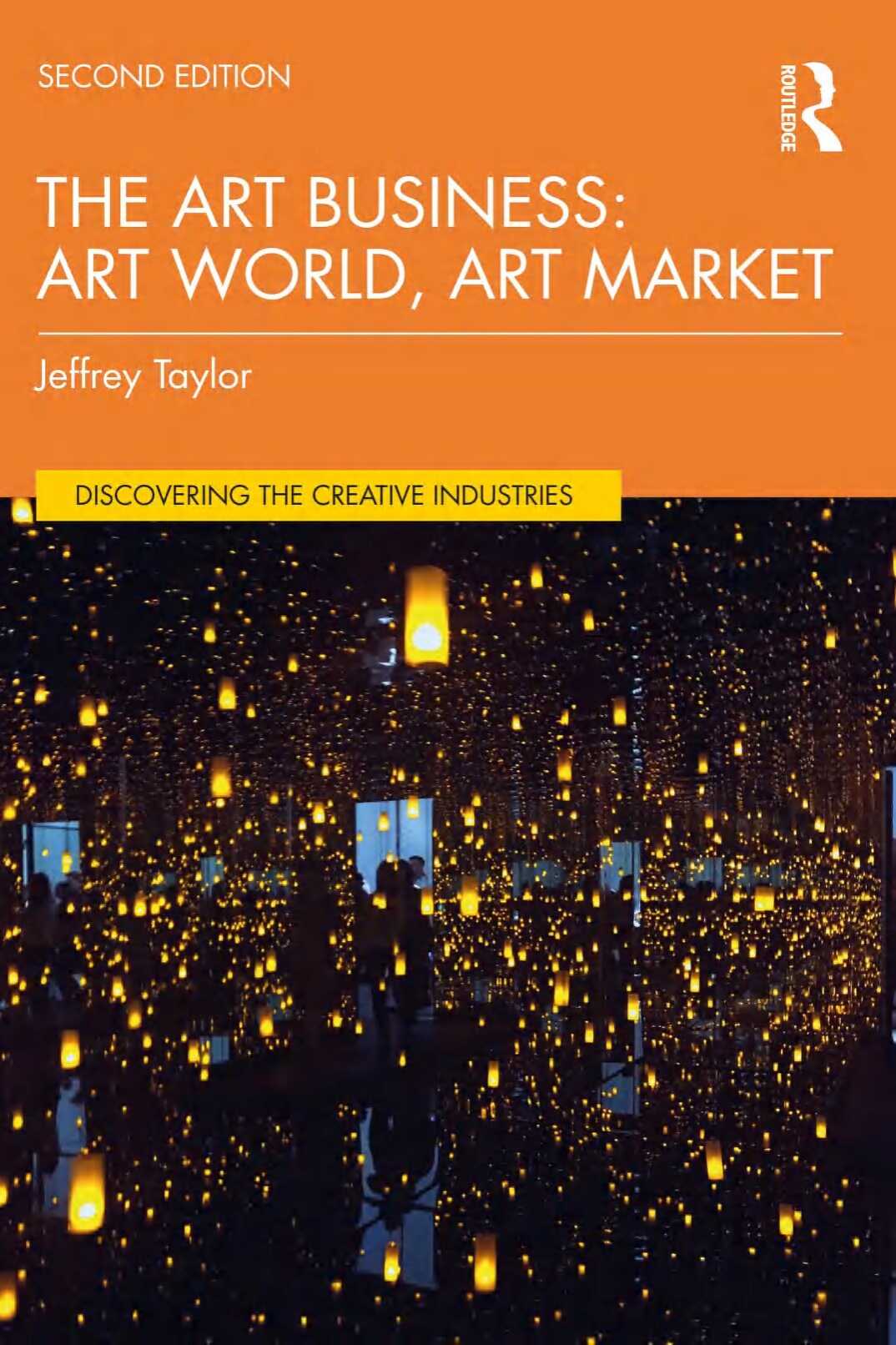Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Книга-исследование, создающая объемную и достоверную картину зарождения, расцвета и упадка махновского движения, одного из самых значительных революционных явлений, возникших на переломе истории и повлиявших на ее ход. Народный герой, революционер, противостоявший всем, кто покушался на Свободу и Волю, жаждущий правды и жизни, Нестор Махно стал символом борьбы с диктатурой. Всматриваясь в события прошлого, развенчивая мифы и стремясь восстановить объективность, автор делает попытку представить всю многомерность этого движения, где борьба за принципы Свободы и Справедливости шла рука об руку с жестокостью и насилием.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Василий Ярославович Голованов»: