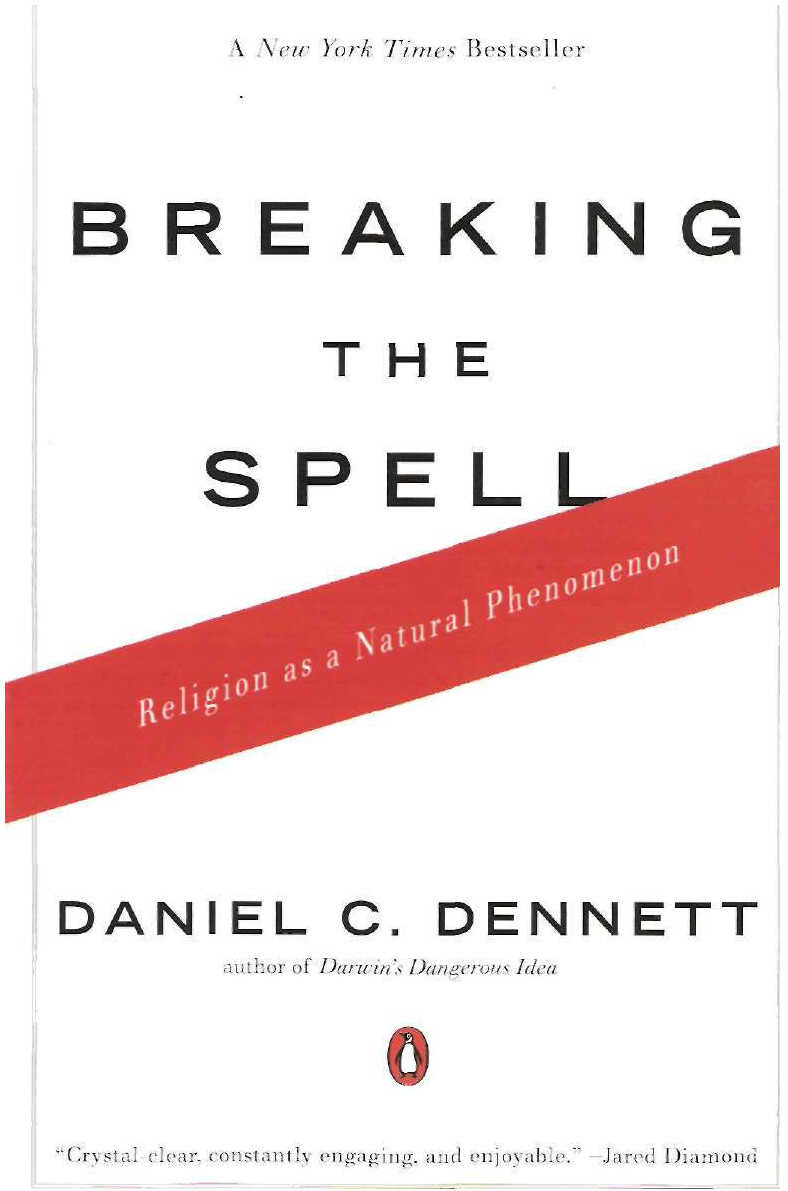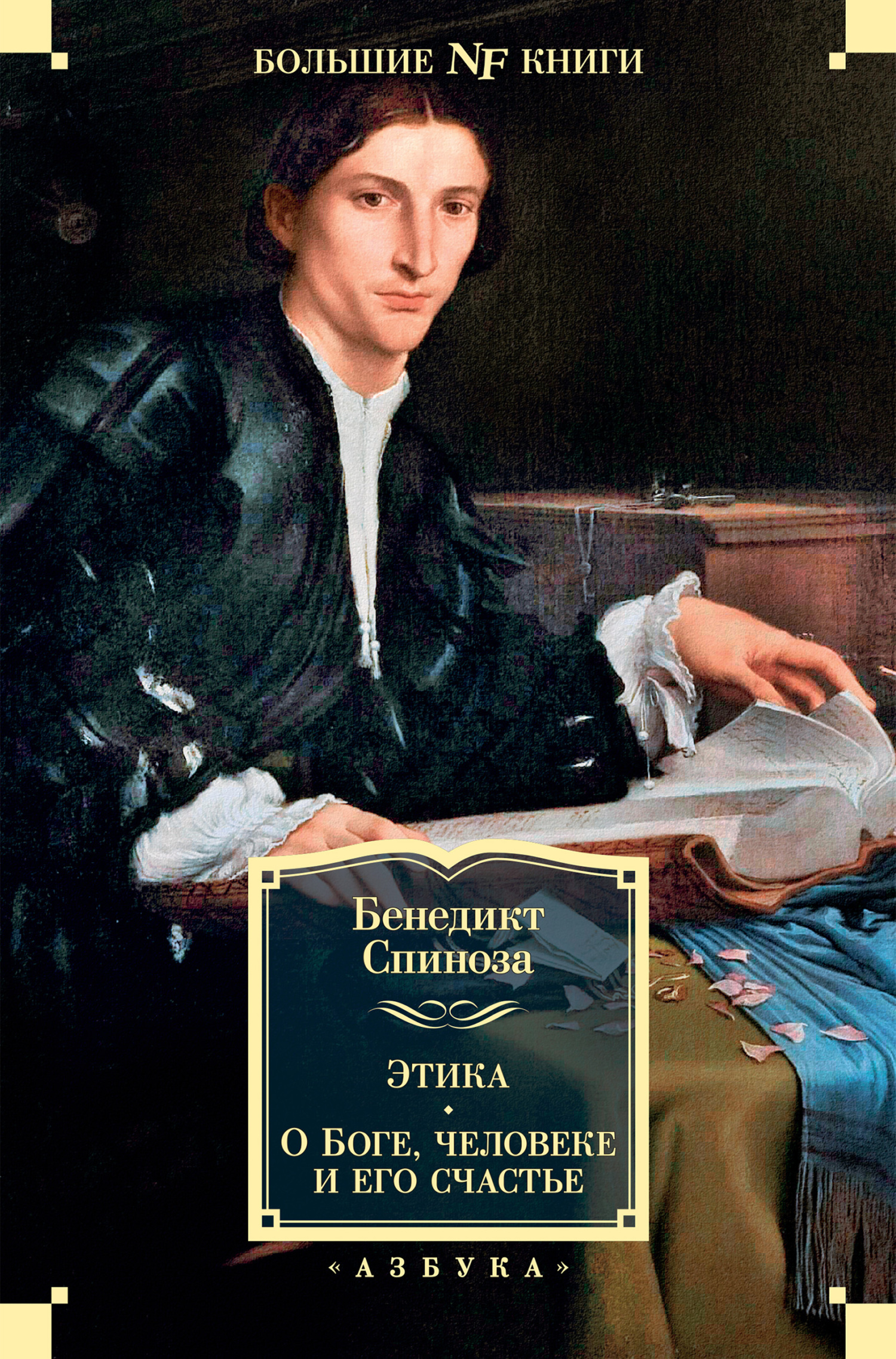Шрифт:
Закладка:
"Мбембе освежает дискуссию в Европе, поглощенной "желанием апартеида". Это человек, который не боится выбросить в окно национальную историю, идентичности и границы. Французский универсализм? 'Сплошное умозрение', - говорит Серт Мбембе. В стиле Эдуара Глиссана... он не ограничивает свою географию уровнем нации, а расширяет ее до "всего мира". Он мечтает написать общую историю человечества, которая сдует весь броский национальный героизм и нарисует новые отношения между собой и другими. Во Франции и Европе, которые боятся даже своих собственных теней, можно ясно увидеть подрывной потенциал мысли Мбембе. Его последняя книга, "Некрополитика", рисует неприятный портрет континента, изъеденного желанием "апартеида", движимого навязчивым поиском врага, для которого война - любимая игра." -Сесиль Дома, Libération
"[Новая книга Мбембе] - ценный инструмент для понимания того, что происходит как на Севере, так и на Юге. Анализы этого верного читателя Франца Фанона бесповоротны: война стала не исключением, а постоянным состоянием, "таинством нашей эпохи"... . . Одна из самых серьезных проблем, с которой нам предстоит столкнуться, предупреждает Мбембе, - это защита наших демократий при одновременном включении в них этого "другого", которого мы не хотим, если мы хотим построить наше общее будущее".-Северин Коджо-Гранво и Майкл Порон, Jeune Afrique