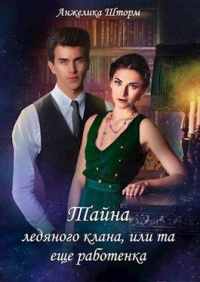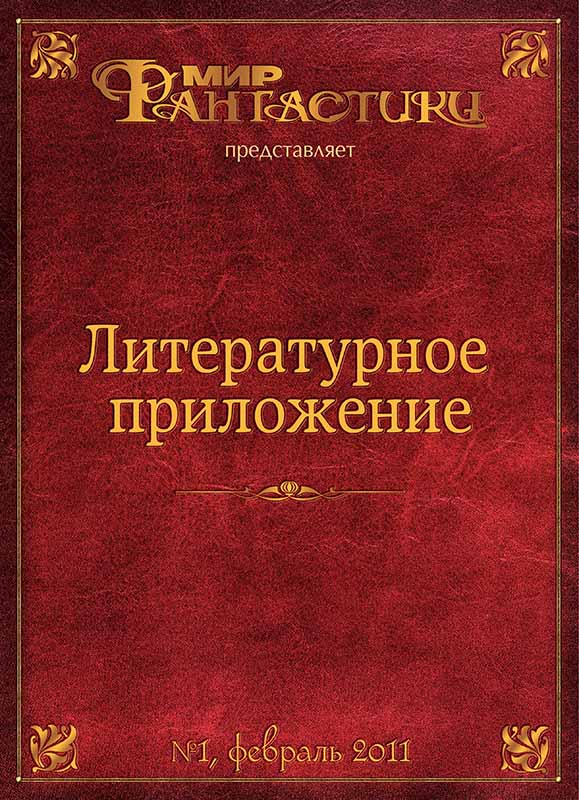Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Фанфик по мотивам книги Дж. Р.Р.Толкина «Властелин Колец». 2850-ый год Третьей Эпохи. Над Лихолесьем сгущается Тьма, и Гэндальф Серый принимает решение тайно пробраться в Дол Гулдур и выяснить, что за черные дела творятся во вновь восставшей из руин таинственной Крепости. Вот только эта отчаянная затея грозит закончиться для старого мага далеко не лучшим образом, да и компанию ему составляет урук-подросток…
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Ангина»: