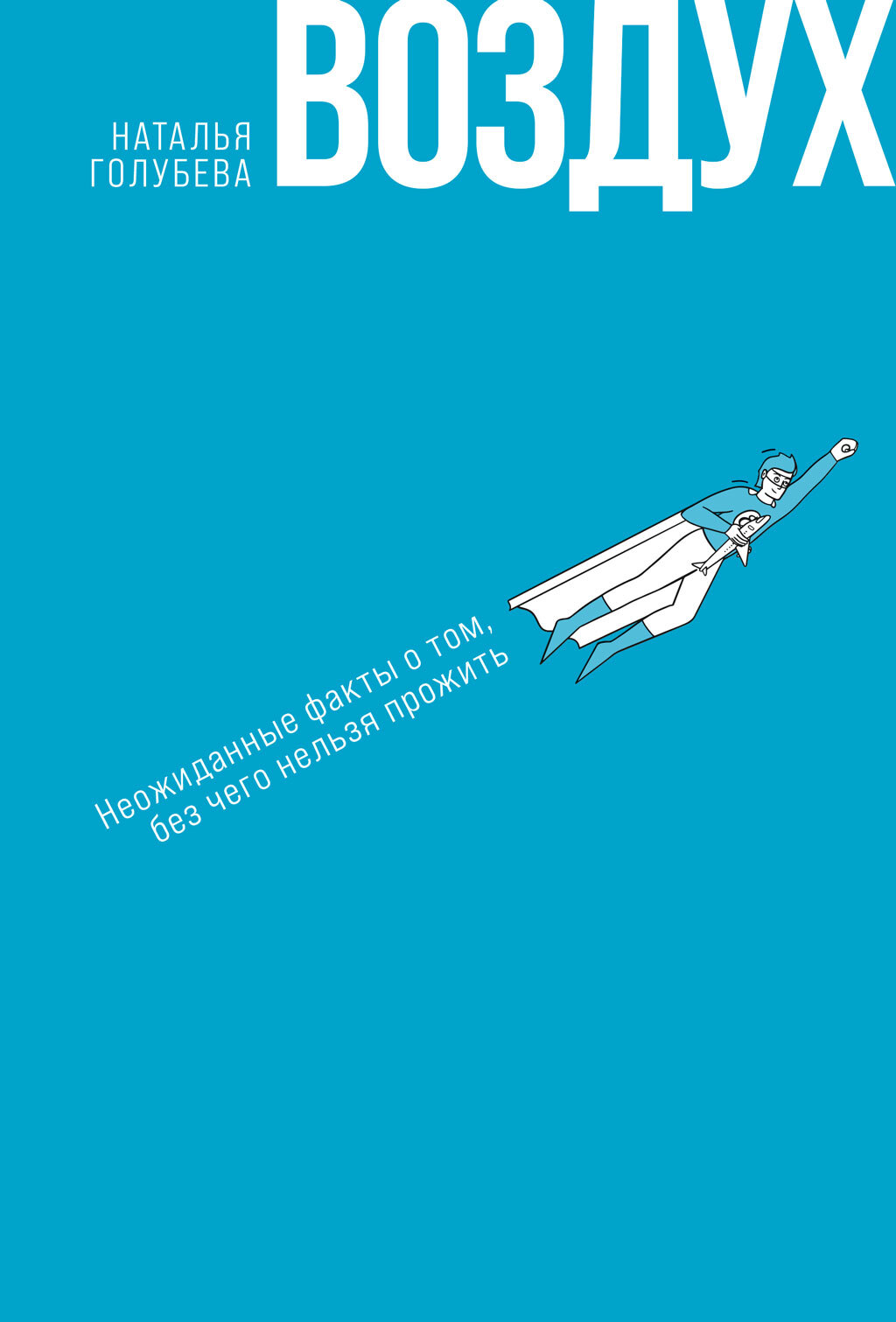Шрифт:
Закладка:
Елена Долгопят - писательница, сценарист и киновед, которая работает в Музее кино в Москве. Ее книга “Хроники забытых сновидений” - это необычный сборник рассказов и эссе, связанных с темой кино и памяти. В первой части книги автор делятся своими впечатлениями от разных фильмов, которые она смотрела в Музее кино или на экранах кинотеатров. Она рассказывает о том, как эти фильмы отражали ее жизнь, мысли и чувства, как они влияли на ее восприятие мира и себя. Во второй части книги автор представляет свою малую прозу, которая также имеет отношение к кино. Это рассказы о людях, которые живут в мире иллюзий, о тех, кто создает или смотрит фильмы, о тех, кто пытается сохранить или восстановить свою память через кинематограф. Это рассказы о сновидениях, которые становятся явью, и о яви, которая становится сном.
“Хроники забытых сновидений” - это книга для тех, кто любит кино и литературу, для тех, кто интересуется историей и философией искусства, для тех, кто ценит глубину и оригинальность мысли. Вы сможете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com и окунуться в удивительный мир Елены Долгопят.
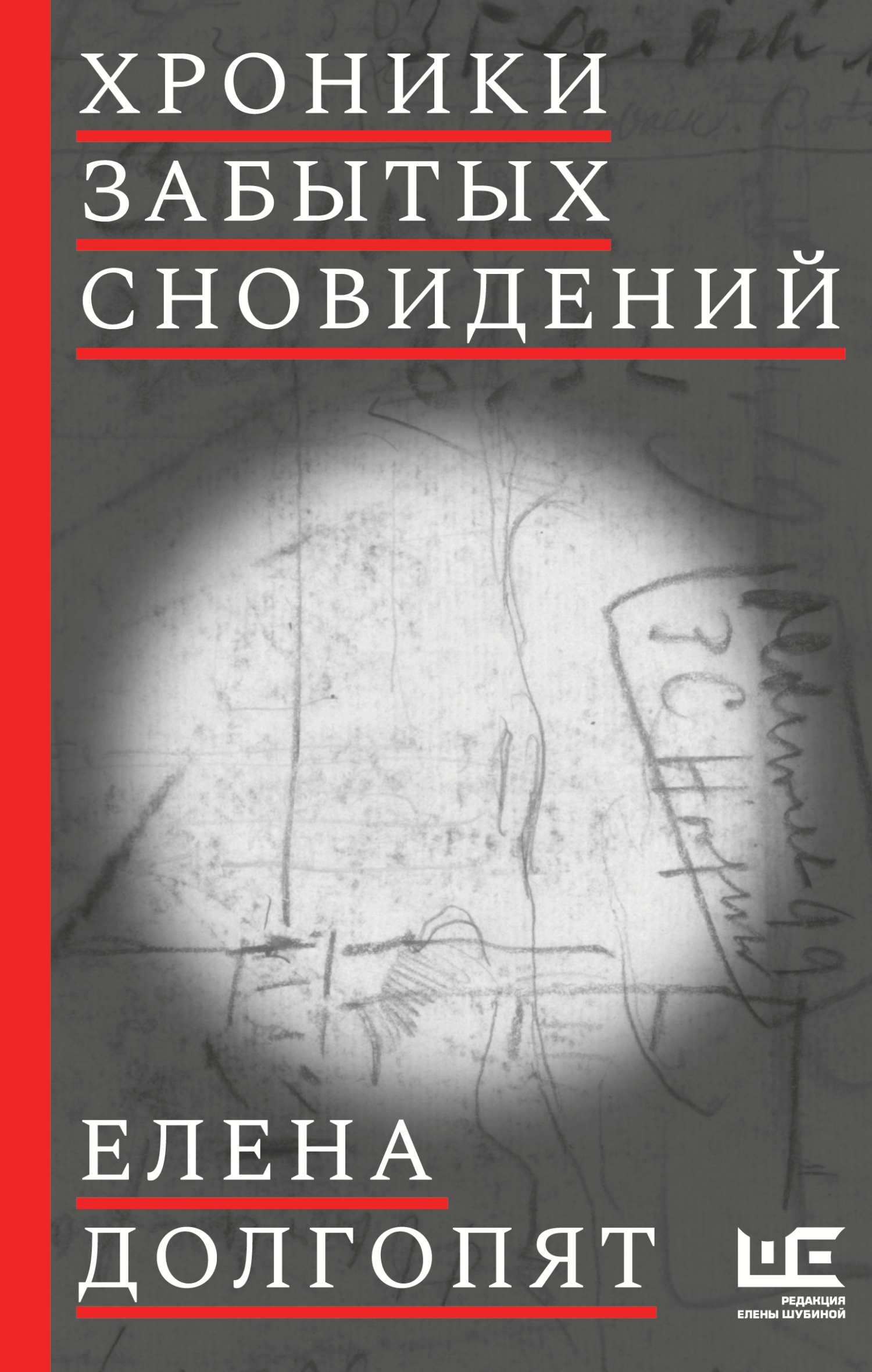
![Хроники забытых сновидений [litres] - Елена Олеговна Долгопят](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)