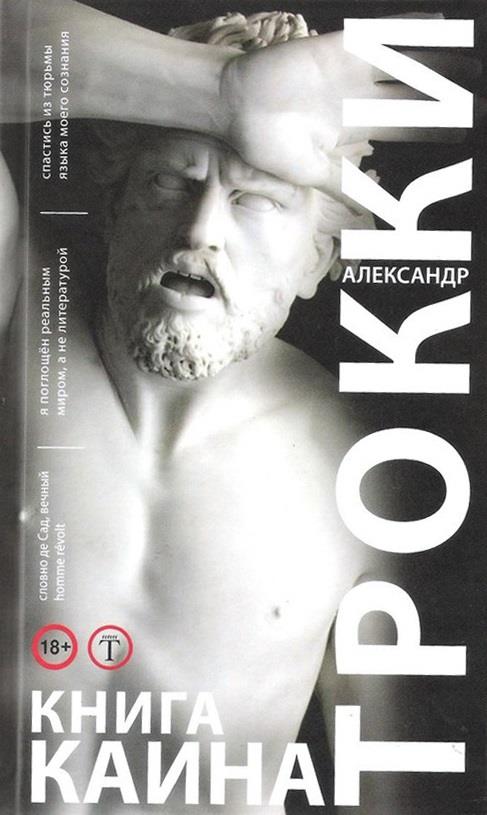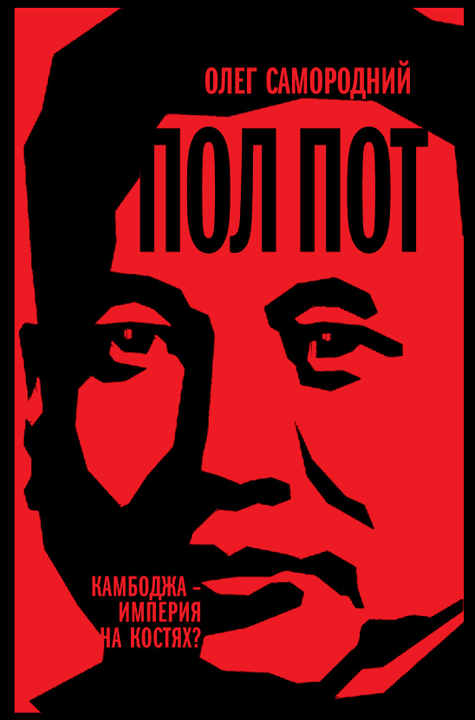Шрифт:
Закладка:
Когда Ян, наконец, продрал кружево паутины на глазах, стало пасмурнее. В оконную раму была засунута заслонка из фанеры. Ободранные обои частично заменил паутинный драп. В зеркале, вытряхивая слюду своих бескровных, остекленевших предшественников, пучилось отражение. Набрякшая поверхность едва держалась и слоями отскакивала при каждом движении новичка, плющившего одинокую рожу. Канул в кажимость? Ян злорадно повернулся, оставляя бессильного позёра распластываться и, истекая соками, стекленеть ещё одним слюдяным слоем, сделал пару шагов и пнул в дверь, как в днище Харона. Вокруг аммиачной, мёртвой лифтовой шахты лестничный пролёт с прибившимися номерными расщепами, разбухшими от кошачьих эмоций. Становилось возможным бездумно скользить по утерявшей пульс улице. Она напоминала изношенную простыню, под которой уже завелись черви, перенявшие инстинкты верхних пользователей. Их похотливые изгибы местами выпрастывали наружу выворотни земли, клубы чёрных подземных испарений, столь плотных, что черви, казалось, могли удержаться в них над землёй. Змеи-горынычи особенно клубились и пыхтели вокруг неосторожно приподнявшегося, растерянного солнца, хватали его за ломающиеся лучики, тащили всё ниже и ниже, в грязь. Солнце порывалось подняться, бежать, неуклюже отпихивалось, уставая и слабея на глазах. Бесполезно было звать на помощь. Ян стучал во все подъезды, сдирал с них мох заплесневелой памяти и, словно пропитавшись пенициллином для борьбы с пакостью, в приливе сил побежал на закат, чувствуя под ногами как громоздившиеся на дороге, истончённые, почти неощутимые прежде остовы страданий юного Яна наливались возвращённой памятью, плотнели и возносились грудой, вскарабкавшись на которую он увидел, как далеко и покойно солнце от всех химер его страха. Оно подмигнуло Яну, подёрнув голубоватым дымчатым веком, и приветливо взмахнуло перистой золотистой прядкой, что лестницей Иакова спустила его на грешную землю, в "Букинист" на Театральном проезде. Этот букинист был удобен тем, что можно было свободно копаться на его полках.
Ян выкопал довоенный учебник гусарских болезней.
Несколько дней, заперевшись с марганцовкой и спринцовкой на хлипкую задвижку в своей комнате, он думал, знала об этом троллейбусная Эвридика или не знала. Может, она пассивная носительница, в детстве вытерлась маминым полотенцем? Ян выходил на кухню, где шелушившая фольгу дорогих конфет Пипа, кудрявая, как Мальвина, немного гордясь своим интеллигентным жильцом, представляла мальчика-после-школы своим сменным районным кавалерам, прося выбирать лексикон. Дымный дух сношал Пипу сигаретой. Выкуренные дети жили в особом дымном городе над Пипой, отчего та постоянно нервничала. С криком — мама, мама, они выпускали дымные сердца и опадали под глухие каблучки хлопьями пепельной фольги. Кавалеры, почему-то все остроносые, как Буратино, доставали выдранный откуда-то гитарный гриф с распяленными струнами, испускали этические серенады, созвучные Яну. Трень-трень! Незнакомочка, Эвридикочка! Ты проходишь красной ни-точкой через жизнь мою, тупым мотивчиком артерии, прошитой чьей-то волей дёрганым стежком-м. А если бо-ли узелочек всё же разорвётся с усилья иль от перегнива тка-ни — то что сшивала нитка, распадё-тся Эдема жухлыми черновика-ми — садовница, по хоженой доро-жке рассеянно оставишь каблучка-ми сквозь жилки ли-стьев красных лунок стро-чку… Задушевные струны пленялись сальной лепниной и глохли. Овечья голова на вертеле — Мальвина, целующаяся с Буратино.
— Ничего с ним не случится, не потеряешь, — утробно рассмеялась догадавшаяся обо всём Фуриоза, позвонив узнать, удачно ли были использованы её постельные дензнаки. — Его потерять невозможно, скорее тело потеряешь. Этот клинышек человеков в глине выписал, слабую и сильную половины. Прострочил жилками, за которые наше трепетное сердце по самый кончик его втягивает, вытягивая его у вас, созданий со спокойным сердцем. — Спокойным?! Даже кожа, ступни у Яна стали чувствительнее, саднили, тело податливо обмякло. В сумеречном состоянии, задыхаясь — опустились грудь и мозги — Ян в ужасе ощущал липкую загадочность. Фуриоза, впрочем, вскоре прислала Яну ящичек с пенициллином. Его Ян и проколол себе в попу, оставляя синяки, стерилизуя шприц кипятильником, ближайшие две недели почти не выходя из комнаты даже на пипину кухню. За это время там происходили перемены. Серенадные кавалеры один за другим были вытеснены хриплым туберкулёзником с цементного завода. Он приходил ночью, кашлял цементом, матерился, а перед уходом на смену выходил на балкон плевать на прохожих. Вечерами Пипа прислушивалась к лифту в раздолбанной прихожей, была бита и, распластанная прямо на полу, плакала. Ян стоял у своей комнатной двери, за которой локтями и коленями по полу стучала плачущая Пипы, и думал, куда же делось его рыцарство. Ведь он же был рыцарем в Южной Мангазее. С каждым днём Пипа бледнела и худела. До сих пор она жила припеваючи передком, а не задком, который цементник усердно накачивал цементом. Забыв про былые церемонии, она пожаловалась Яну на рвоту, она не может кушать, сходить в туалет, потому что цементник замуровал её сзади. Ей что-то ударило в голову. Пипа размазывала по голому телу румяна и губную помаду, говорила что это цирковое трико, выбегала в таком виде на балкон, раскидывала руки и говорила, что ей не нужно есть и она ждёт гостей, воздушных солнцеедов. Ян вспомнил, что историю про окрашенных людей, питающихся солнечным излучением, он слышал от Робсона в Юмее. Негр рассказывал, что над Москвой живёт племя воздушных канатоходцев, никогда не спускающихся на землю. Это потомки нескольких убежавших от сталинских репрессий. Они живут, занимаются любовью на канатах, протянутых между сталинскими высотками, рожают в метеорологических комнатках в звёздах, установленных на шпилях. Иногда небесные циркачи спускают спасительные ниточки к окнам, за которыми замечают отчаявшихся.
Впрочем, Пипа никак не становилась солнцеедкой. Она видела отброшенные ею тени и чувствовала, что тлеет в свете солнца. Влюблённые в неё небесные канатоходцы безумели в едких тенях, в дыму своей милой и рушились, разрывая небо. Превращали невнятный пейзаж, отходящий к излучине Москва — реки у Коломенского в райский гумус, над которым тлели расплывчатые следы, теплились бледные пятна. "Глазастые должны быть ахиллесовы пятки у влюблённых небожителей, раз их следы прозревают человечьими ликами. Лицами прохожих", подумала Пипа. "И их тоже кто-то окрылённо любит! Обнимает дымные тени трескающимися руками! И тоже рухнет. Моё тело — след безумия, вдавленный в подлунное пространство!". Красна девица села на перила.
— Ян! — вскрикнула Пипа, заметив на кухне студента, сквозь балконную дверь вглядывающегося в намалёванную вокруг её соска ромашку.
— При любом цветке есть своя женщина, — объяснила она жильцу, покачивалась. У неё были очень длинные пятки, которыми она постукивала по балконной решётке. — Женщина это