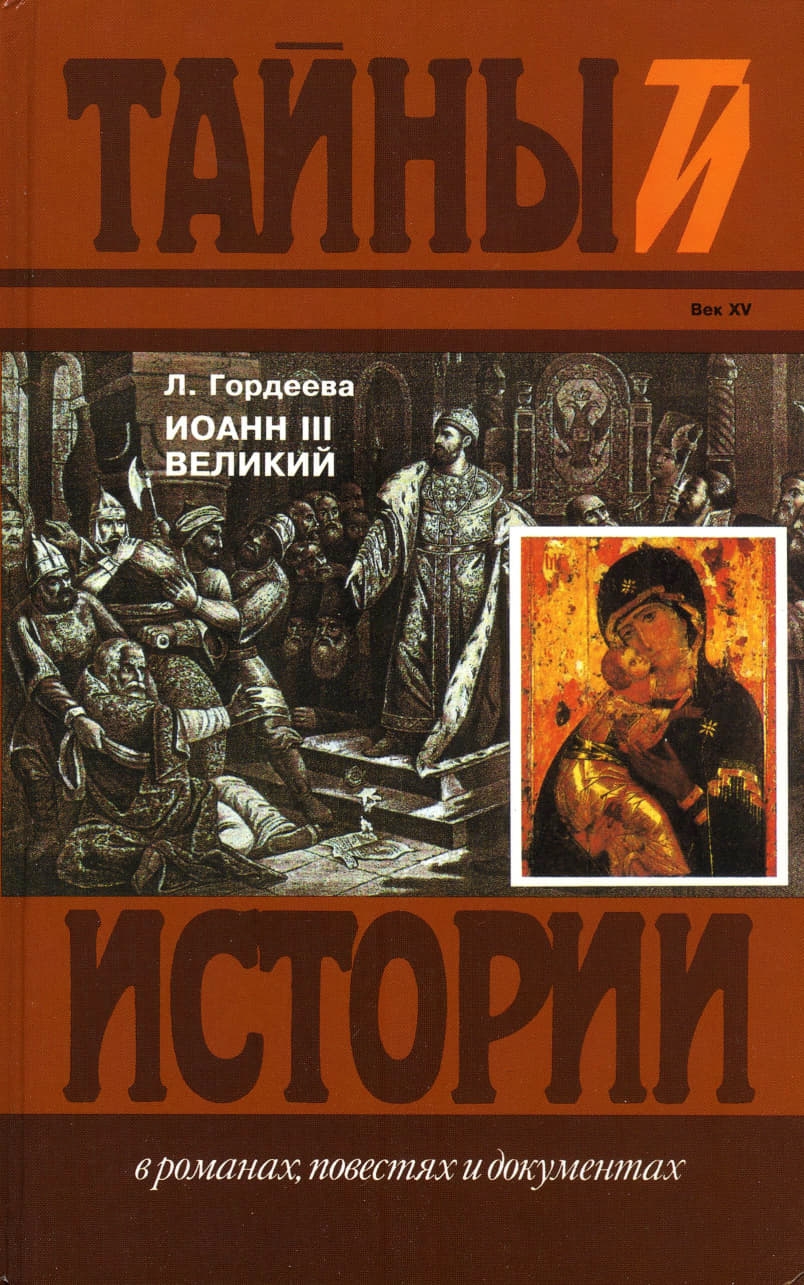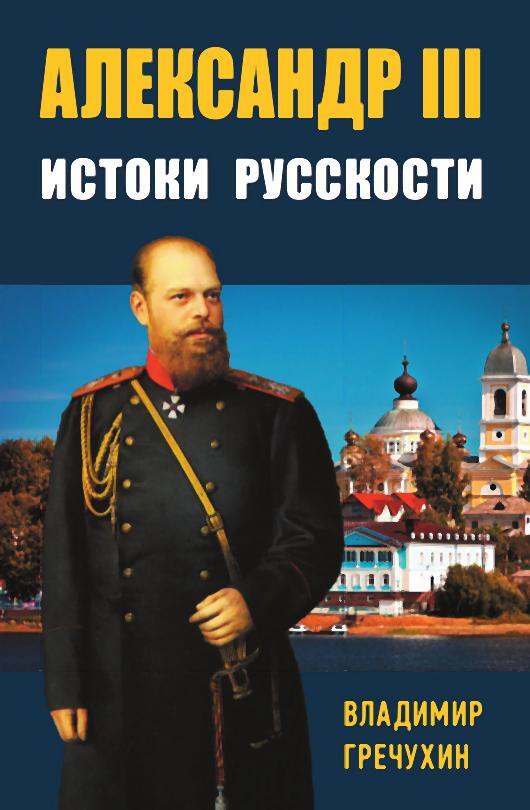Шрифт:
Закладка:
«Шандарахнутое пианино» (1971) — второй роман Макгуэйна, который завоевал престижную награду фонда Ричарда и Хилды Розенталей и принес автору славу великого абсурдиста. Виртуозным языком, играя словами и пересыпая повествование шутками высочайшей пробы, Макгуэйн рассказывает нам историю Николаса Болэна — молодого человека, совсем отбившегося от рук. Роман этот — «дорожная» пикареска, потому что наш герой, нормальный американский фрик, отправляется странствовать по стране в зеленом «хадсон-хорнете» в погоне за юной миллионершей, жаждущей «реального опыта», в обществе двойного ампутанта, одержимого строительством по всей стране башен для летучих мышей, способных избавить местности от насекомых-вредителей практически за ночь… Все это может напомнить нашему читателю «Лот 49» Пинчона и порадует всех поклонников острой и едкой культовой литературы.