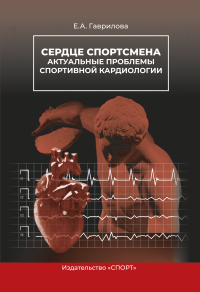Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Дети Л. Т. Космодемьянской погибли в борьбе с фашизмом, защищая свободу и независимость своего народа. О них она рассказывает в повести. По книге можно день за днем проследить жизнь Зои и Шуры Космодемьянских, узнать их интересы, думы, мечты.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Любовь Тимофеевна Космодемьянская»: