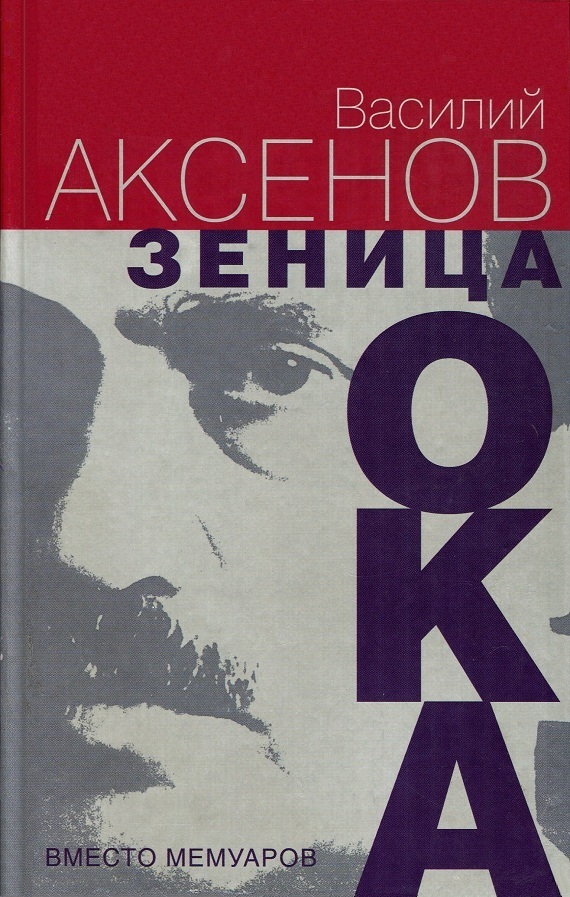Шрифт:
Закладка:
Трактат крупнейшего мыслителя XX века, немецкого философа, психолога и психиатра Карла Ясперса, написанный им после разгрома германского фашизма, в дни Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками. В то время побежденная Германия лежала в руинах, а общество пребывало в смятении и глубочайшей депрессии. Перед немецким народом стояла задача пересобрать себя, выработать новую национальную идентичность – «переплавиться, возродиться, отбросить все пагубное». Ясперс поднимает болезненный вопрос о том, несут ли все немцы ответственность за преступления нацистского режима, и впервые разграничивает четыре вида виновности: юридическую, политическую, моральную и метафизическую. Трактат публикуется в классическом переводе Соломона Апта.«Вопрос виновности – это еще в большей мере, чем вопрос других к нам, наш вопрос к самим себе. От того, как мы ответим на него в глубине души, зависит наше теперешнее мировосприятие и самосознание. Это вопрос жизни для немецкой души. Только через него может произойти поворот, который приведет нас к обновлению нашей сути. Когда нас объявляют виновными победители, это имеет, конечно, серьезнейшие последствия для нашего существования, носит политический характер, но не помогает нам в самом важном – совершить внутренний поворот. Тут мы предоставлены самим себе».«Если я не рискнул своей жизнью, чтобы предотвратить убийство других, но при этом присутствовал, я чувствую себя виноватым таким образом, что никакие юридические, политические и моральные объяснения тут не подходят. То, что я продолжаю жить, когда такое случилось, ложится на меня неизгладимой виной».«Даже на войне можно обуздать себя. Положением Канта «на войне нельзя допускать действий, делающих примирение в дальнейшем просто невозможным» – этим положением Канта гитлеровская Германия первой пренебрегла в принципе. Вследствие этого насилие, одинаковое по сути с первобытных времен, но в своих истребительных возможностях зависящее от техники, ограничений сегодня не знает. Начать войну при нынешней обстановке в мире – вот что чудовищно».Для когоДля всех, кого интересуют вопросы философии, этики, исторической памяти, переосмысления исторических травм, коллективной вины и ответственности, а также история Германии после Второй мировой войны.