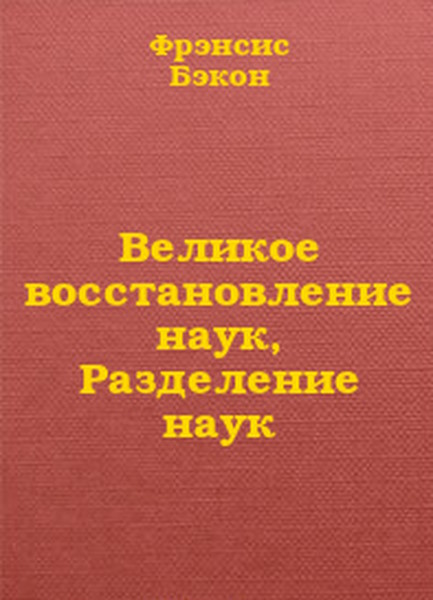Шрифт:
Закладка:
Чтобы определиться со своим мировоззрением и принимать взвешенные решения, влияющие на нашу жизнь, нам среди прочего необходимо сформировать свое отношение к высказываниями экспертов и результатам научных исследований. “Ученые врут и все скрывают” или “ученые доказали, значит, так и есть”? Между двумя этими крайностями лежит огромное поле неоднозначности, и книга Стюарта Ричи помогает нам сориентироваться на нем, найти свою позицию. Приводя потрясающие воображение примеры, Ричи описывает системные проблемы в публичном освещении научных работ и устройстве самой научной деятельности, позволяя критически переосмыслить все, что мы читали, смотрели и слушали о науке до сих пор. Однако надежды на прогресс он у нас вовсе не отнимает – напротив, мы много узнаем о том, что делается и что еще можно сделать, чтобы доверие к работе ученых крепло на более надежных и устойчивых основаниях.В формате PDF A4 сохранен издательский макет.