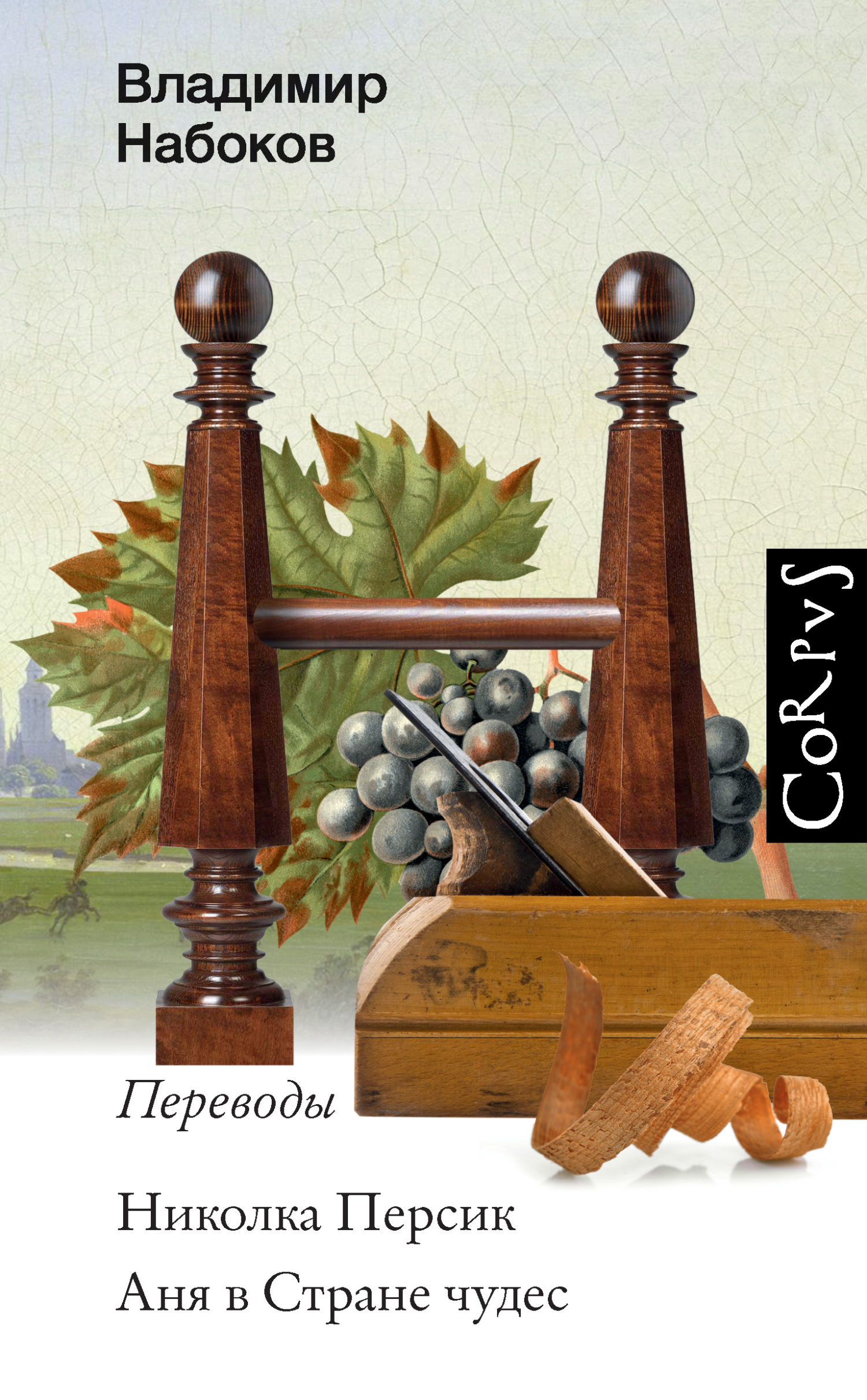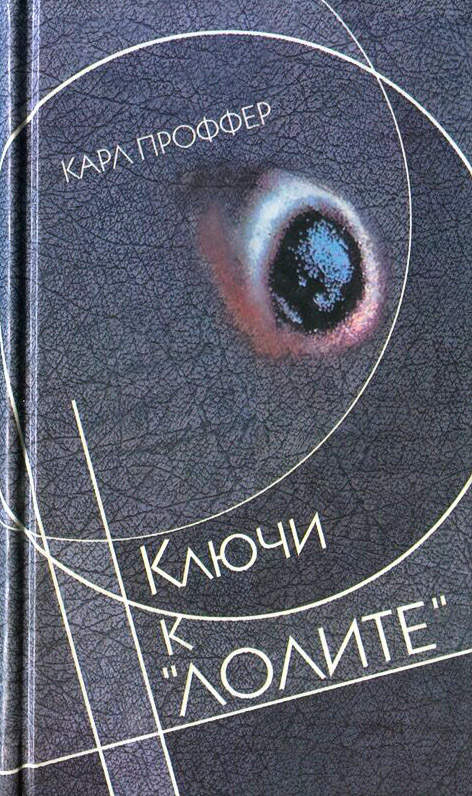Шрифт:
Закладка:
Английское собрание короткой прозы Владимира Набокова (1899-1977), выпущенное сыном писателя в 1995 год); хорошо известно на Западе. Однако на русском языке, на котором 11абоков написал большинство своих рассказов, книга долгое время не издавалась. Благодаря многолетней работе исследователей составленный Дмитрием Набоковым том пополнялся новыми произведениями, в результате чего к 2008 году под одной обложкой удалось собрать свыше шестидесяти рассказов, написанных Набоковым в 1920-1951 годах в европейской эмиграции и в Америке. Кроме известных произведений, в настоящем полном собрании рассказов представлены редкие ранние сочинения, а также предисловия и заметки Набокова из английских сборников. В Приложении публикуются сочинения, не входившие в предыдущие сборники рассказов. Издание снабжено предисловием и примечаниями Д. Набокова, значительный свод сведений читатель найдет также в комментариях редактора и составителя сборника Андрея Бабикова. Английские рассказы печатаются в переводе Геннадия Барабтарло, подготовленном при участии Веры Набоковой.Сохранены особенности орфографии, пунктуации и транслитерации переводчика.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.