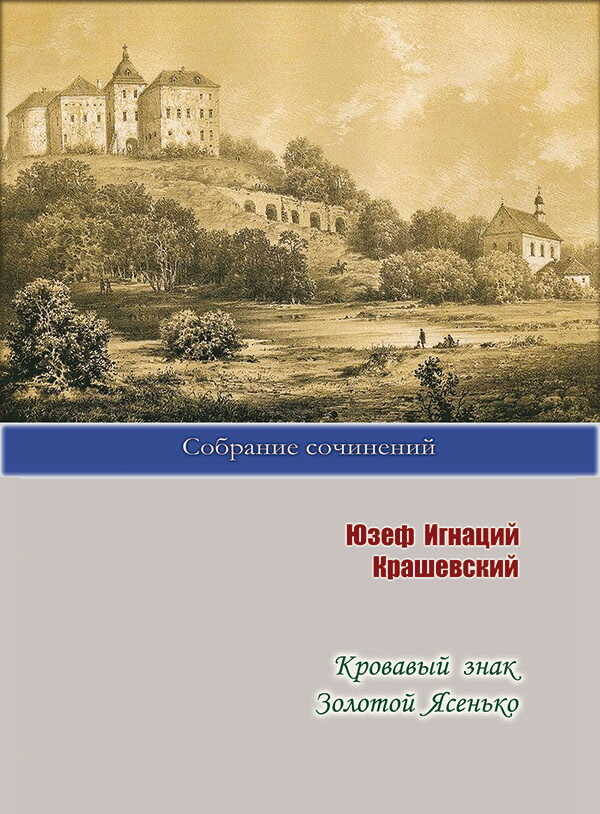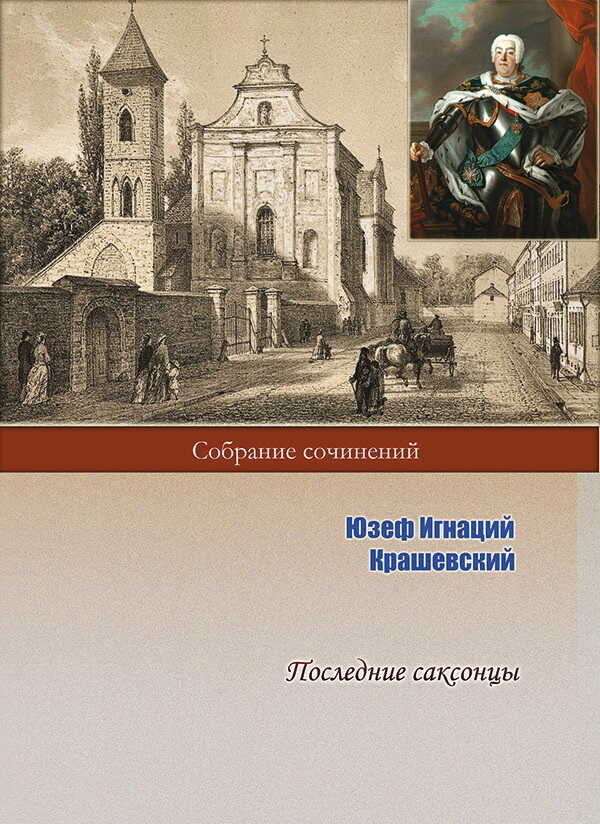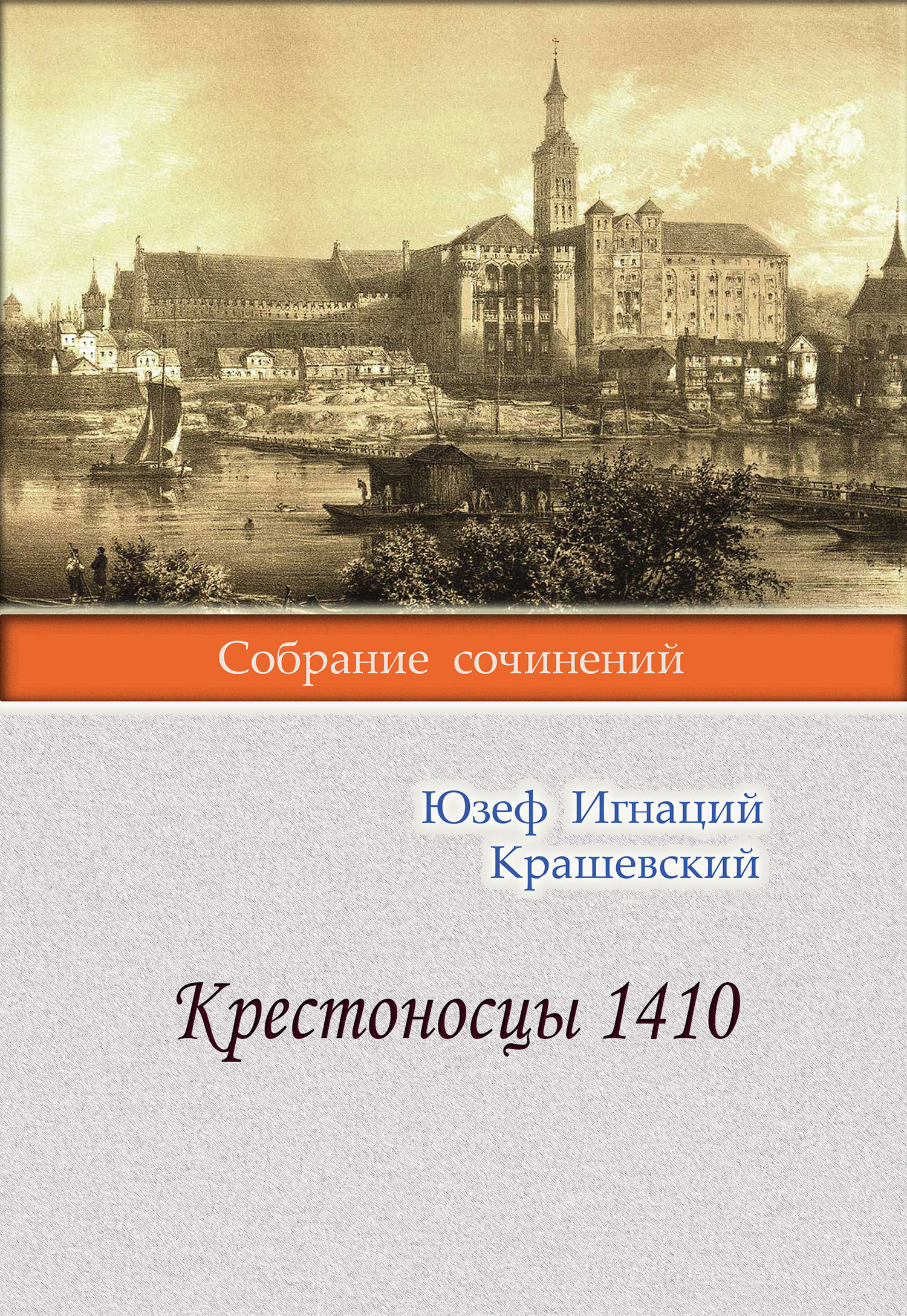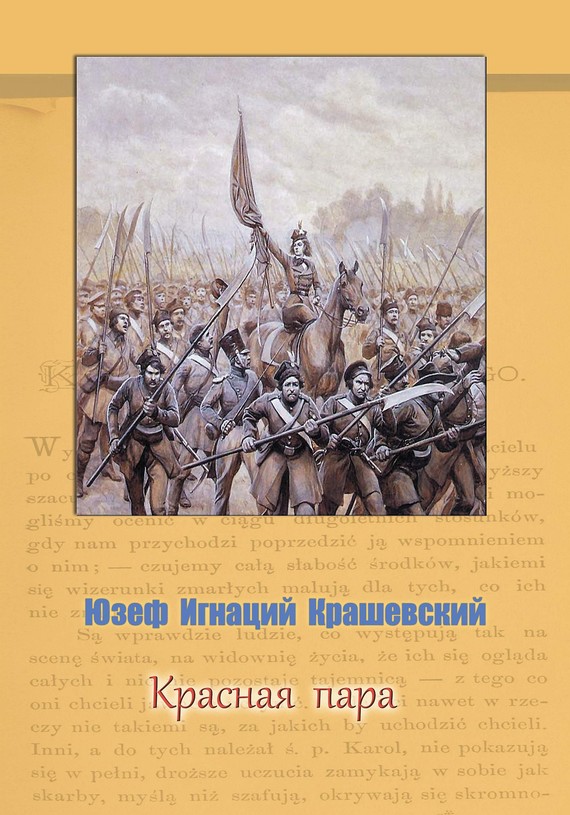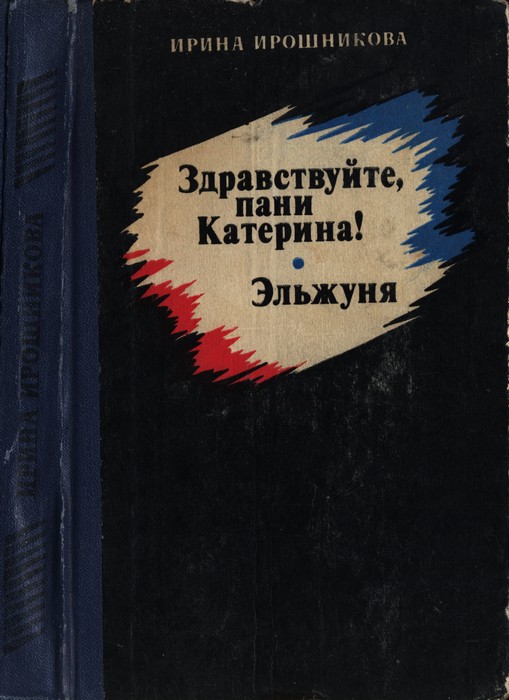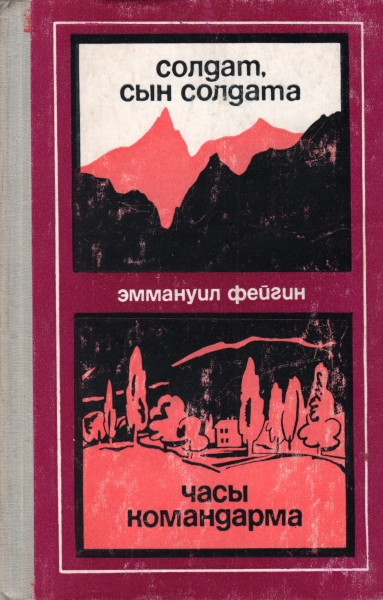Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Роман «Красная пара» переносит читателя в 1863 год, когда в Варшаве началось восстание против русского правительства. Недовольные политикой Царской Польши, принудительными призывами в армию, отряды повстанцев начали уходить в леса и оказывать вооружённое сопротивление. На фоне этих событий автор запечатлел необычную любовь двух главных героев, для которых на первом месте была любовь к родине.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Юзеф Игнаций Крашевский»: