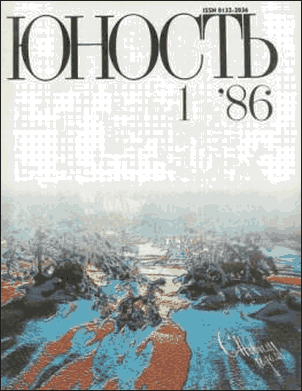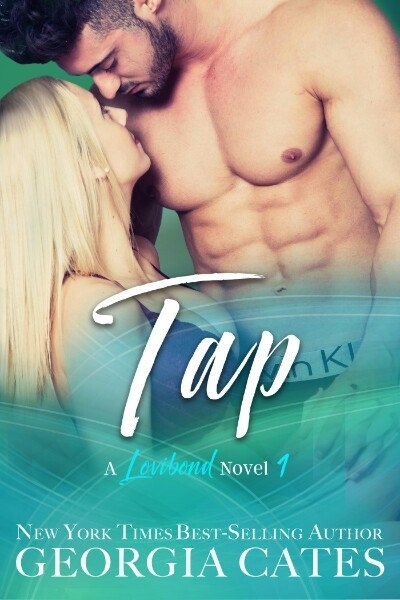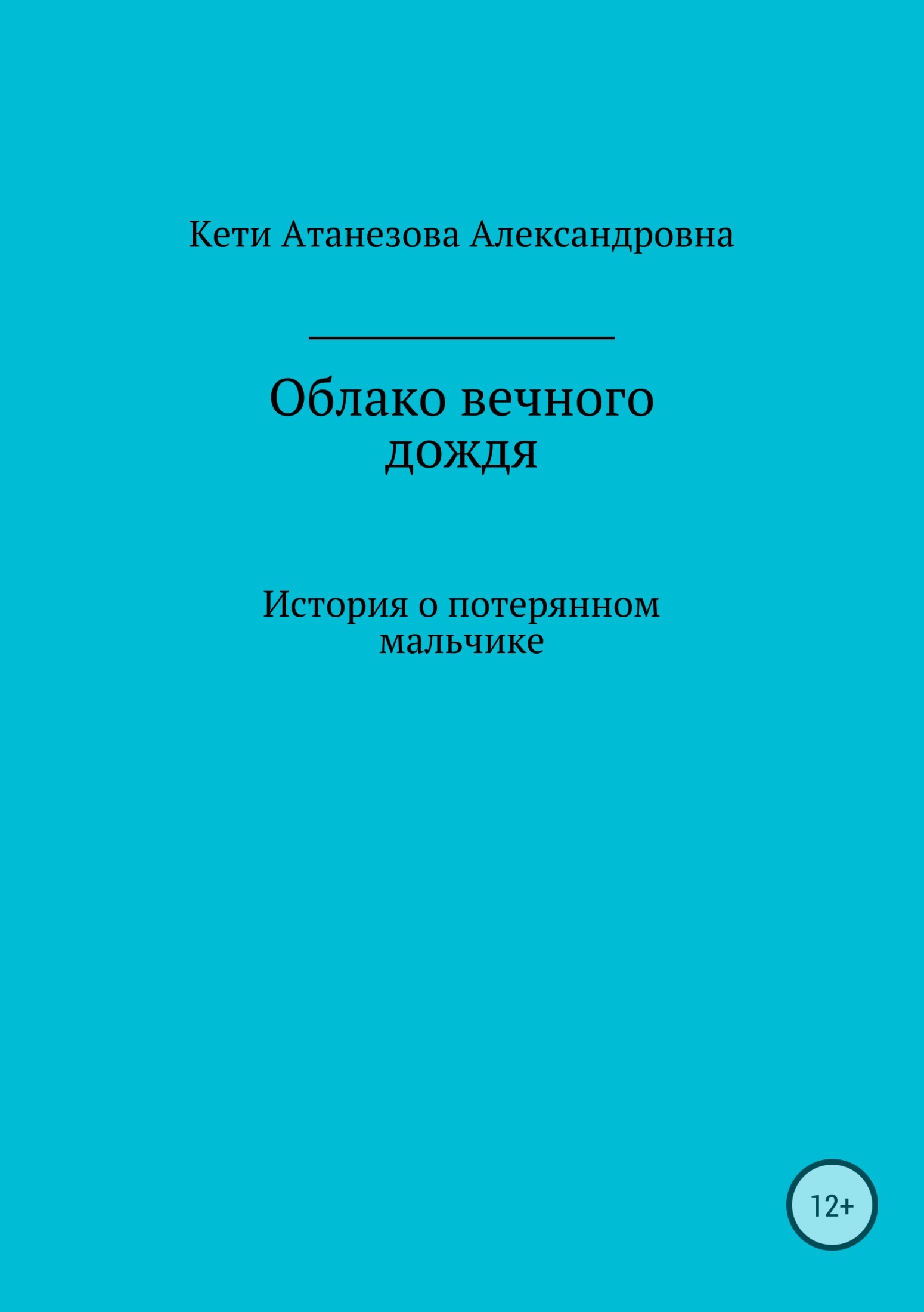Шрифт:
Закладка:
Книга “Жасмин в тени забора” - это роман о судьбе человека, который пытается найти свое место в мире, полном противоречий и несправедливости. Главный герой книги - Алексей, молодой инженер, который работает на заводе по производству ракет. Он живет в обычной коммунальной квартире, где его соседи - разные люди с разными проблемами и мечтами. Алексей не чувствует себя счастливым и удовлетворенным своей жизнью. Он ищет любовь, но не может найти ее среди своих знакомых и коллег. Он хочет изменить мир к лучшему, но не знает, как это сделать.
Однажды Алексей знакомится с Жасминой, дочерью афганского дипломата, которая приехала в СССР по обмену. Жасмина - красивая, умная и свободолюбивая девушка, которая открывает для Алексея новый мир. Она рассказывает ему о своей стране, о ее культуре и традициях, о ее борьбе за независимость и свободу. Алексей влюбляется в Жасмину и хочет быть с ней. Но их отношения оказываются под угрозой из-за политических обстоятельств, которые разделяют их страны. Алексей и Жасмина сталкиваются с непониманием и недоверием со стороны окружающих, которые не одобряют их любовь.
Книга Георгия Семенова - это трогательный и драматический роман, который показывает сложность человеческих отношений в условиях холодной войны. Вы можете читать книгу онлайн на сайте knizhkionline.com